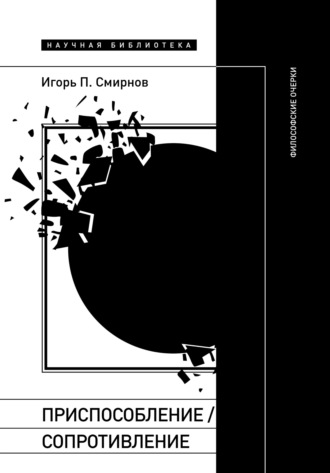
Игорь Смирнов
Приспособление/сопротивление. Философские очерки
Речь о коммунизме пойдет ниже. Но, забегая вперед, уместно уже сейчас заметить, что его смысл расходится со смыслом жизни. Ее сущность в том, чтобы, транслируя себя от одного организма к другому, избыть передатчика наследственной информации. Жизнь куда более значима, чем живущий (в чем мы, живущие, не хотим отдавать себе отчет). Сотериологическая же сущность коммунизма – сосредоточение жизни в социальном сверхорганизме, иммортальность которого не будет отменена смертностью его отдельных слагаемых. Утопическому сверхорганизму недостает необходимого ему, как и любой плоти, энергетического содержания – той жизни, иное имя которой – смерть множащего ее. Самке богомола, пожирающей самца после совокупления, дано инстинктивное знание о том, что такое жизнь. К несчастью всех, поверивших в коммунистическую химеру, вплоть до Алена Бадью, Славоя Жижека и Бориса Гройса, Маркс не увлекался энтомологией – в отличие от Роже Кайуа, написавшего статью «Богомол» (1934), в которой проследил отнюдь не случайный интерес самых разных мифологий к привлекшему его внимание насекомому. Сакрализуя богомола, мифогенное сознание удостоверяло свою адекватность жизни, которая сообщает бездушной материи новое начало, чтобы затем повторяться в нем и быть им исчерпанным, чтобы всегда переносить начало в Другое, чем то, что было. Зигмунд Фрейд (хочется почтительно назвать его богомолом мысли) был в принципе прав, вопреки своим постмодернистским хулителям Жилю Делезу и Феликсу Гваттари, центрировав психоантропогенез на Эдиповом комплексе. Будучи в психическом плане восстанием детей против родителей, эдипальность представляет собой в антропологическом измерении опознание человеком ноумена жизни, упраздняющей своего подателя.
2
Злоба дня сего. Пора вернуться к конформизму. Он преобладает в поведении и мышлении людей тогда, когда спасение ищут здесь и сейчас, а не откладывают на будущее, не переносят в реальность, альтернативную наличной. История кажется спасительной уже постольку, поскольку ее место рождения там, где каждого из нас стережет смерть, – в будущем. Конформизм сотериологичен, как и прочие интенции человека, возводящего социокультуру. Но в противовес творению истории ради победы над естественным ходом существования он целиком погружен в современность. Приспособленец неотвязно фиксирован на парадоксе, который содержится в вопросе о том, как не умереть при жизни. Ответ на этот вопрос столь же парадоксален, как и его постановка: конформист сохраняет себя благодаря тому, что губит свою самость, теряющуюся в массовых социокультурных шаблонах, в инерционном тыловом поле исторических начинаний. Тот, кто отождествляет себя с этими шаблонами, отбрасывается из истории в сферу эволюции с тем, впрочем, немаловажным отличием от адаптации животных к их местопребыванию, что продолжает быть обладателем самосознания. Оно, однако, выступает извращенным. Отношение «я»-субъекта к «я»-объекту претерпевает у конформиста переворот, в котором они обменивают свои позиции, так что «я»-субъект попадает в зависимость от «я»-объекта – от того, кто оценивает и интерпретирует себя с точки зрения множественных иных лиц, прекращающих быть чем-то внешним для прямого взгляда, овнутриваемых видящим. Такая доходящая до самоотречения индивида податливость на социальную рутину или на то, что обещает стать ею, преобразует историю в как бы эволюцию, не будучи ни тем ни другим в их чистом проявлении. Конформист увязает в безнадежной невозможности истории обратиться в эволюцию. Он потерян и для одухотворения, и как организм.
Приспособление животных к среде проводит в ней границу, которую им не дано переступить, делит ее на освоенную и не поддающуюся освоению области34. Homo historicus, напротив, трансгрессивен, действует за рубежом того, что есть, в новом для себя мире, в котором он становится инаковым себе и, рожденный во второй раз, оказывается исполнителем роли, от самого себя отличаясь, как сказал бы Хельмут Плесснер35. Объективируя себя, авторефлексивное «я» – продолжим следование за антропологическими соображениями Плесснера, несколько модифицируя их в приложении к социальности, – выпускает на волю собственное Другое, каковое принципиально совместимо с несобственным Другим, с обобщенным alter ego, с обществом, как его понимали Зиммель и Мид. Социализация, заключающаяся в примеривании самостью на себя ролевого «я»-образа, имманентна самосознанию. Это оно источает из себя социальную гравитацию, сбивающую людей воедино и отграничивающую (как на том настаивал Никлас Луман) их союз от природного окружения. Социализованный индивид остается собой, делаясь Другим. Он не совсем совпадает со своей актерской игрой. Поэтому он может иметь сразу несколько ролей, что подчеркивала социологическая теория (1951) Толкотта Парсонса (скажем, трудовую, семейную и ту, в какую входит в неофициальном дружеском круге), и выпадать из всех своих образов или действовать, трансформируя их рамки (обе эти и сходные с ними опции подробно исследовал Эрвин Гоффман36). Homo historicus инобытиен вполне – и тогда, когда театрален, и тогда, когда обманывает ожидания, имплицируемые взятыми им на себя ролевыми обязательствами. Поднимать мятеж против того, что мы застаем, можно только из другой, чем наличная, реальности, какой бы она ни была – спиритуально потусторонней, политически недопустимой, сексуально запретной, идейно чуждой мейнстриму. В этом плане дело, которым занят homo historicus, гибнет, если обращается в рутину, и длится, если воспроизводится с модификациями, с привнесением сюда новой начинательности.
Не принадлежа к анималистическому царству и дезертируя из исторического, конформист регрессивен: он переходит границу в попятном движении из потусторонности в посюсторонность. Довлеющее конформисту восприятие себя чужими глазами заставляет его быть Другим до того, как он стал собой, сливать «я» с социальной ролью, редуцироваться до степени человека-функции. Мы имеем здесь дело не с социализацией индивида, а с деиндивидуализацией социума, которая подытоживается тем, что в нем не быть собой значит «быть». Конформизм вторичен по отношению к образованию коллектива, который суммирует и координирует в групповом энтузиазме свободные волеизъявления личностей, побуждающие их к жизни в истории (большой или малой – сейчас неважно). В понятии persona далеко не случайно срастаются личность и личина. Социум должен уже конституироваться, чтобы явиться восприемником жертв, которые приносят ему лица, отказывающиеся от самости. Конформист разыгрывает двухходовку: он выбирает себе роль в персональном решении, упраздняя затем свою особость, пускаясь в бегство из зоны, антиципирующей будущее. Попадая, так сказать, в предпорубежье, задерживаясь на нейтральной полосе, конформист закономерно теряет и внутреннюю границу, позволяющую нам дистанцироваться от себя и становиться самокритичными, производить переоценку наших акций и суждений, то есть иметь личную историю. Возмещая свой дефицит, приспособленцы нетерпимы к тем, у кого она слишком заметно выбивается из застывающих норм, – ко всяческим выражениям девиантного сознания (сказывается ли оно в идеологических расхождениях личности с мейнстримом или в ее сексуальной ориентации). Конформизм реактивно агрессивен, он отзывается на активное присутствие самости рядом с собой желанием истребить ее. Другому надлежит потерять ее так же, как ее в себе стирает обезличивающийся оппортунист. Исторический же человек, шагающий в небывалое, озабочен прежде всего вложением умственных инвенций в наличную духовную ситуацию, используя агрессию в качестве орудия для реализации своих идейных исканий, инструментализуя ее37 (как то сделал Христос, изгнавший менял из храма). Нельзя, впрочем, сказать, что приспособленец вовсе отчужден от истории. Он сопричастен ей, но не как ее агенс, а как пациенс, послушно меняющий свои взгляды и повадки, если того требует конъюнктура социодинамики.
Для ранних, еще не накопивших разнообразного исторического опыта обществ проблема конформизма малозначима или вовсе иррелевантна. Протест против господствующих правил если и случается в архаическом коллективе, то как точечно-эксцессивный, личностный38. В своем становлении (из внутреннего тяготения индивидов к совместности) социальность пока не знает массового нонконформизма, на что обратил внимание уже один из основоположников науки об обществе Герберт Спенсер39, и поэтому не нуждается в выделении из состава коллектива тех, кто навсегда и безусловно покорен его воле, кто гарантирует его стабильность. Взаимосогласованность индивидуального и группового здесь сама собой разумеется. По реконструкции Вольфганга Липпа, понятие «конформность» впервые входит в оборот, еще не став научным, в Англии в середине XVI века40 (было ли чистой случайностью то, что в той же самой стране родилось и учение об эволюции через приспособление к среде?). «Конформность» делается актуальным понятием (схватываемое им явление существовало, конечно, и раньше) в той ситуации, в какой правительственная власть смыкается с властью церкви и принимается (в конфронтации национального государства с католицизмом) распоряжаться в духовных делах, оказываясь безальтернативной. Конформизм, следовательно, имеет в виду недифференцированность социального тела и Духа, насущен там, где сознание призывается забыть свою способность витать за пределом чувственно воспринимаемого, дабы сосредоточиться на том, что нам непосредственно дано, как если бы эмпирическая действительность и была той далью, куда нам еще предстоит попасть. Быть или не быть приспособленцем – дилемма, особенно остро переживаемая человеком на сломах социостаза при вторжении будущего в настоящее. Человек, сталкивающийся с вмешательством инаковости в заведенный порядок, обязывается переводить мыслительную работу из допускающей присутствие своего субъекта в отсутствии в сугубо присутственную, отелеснивать Дух. Уравненное с телом сознание либо устремляется к выживанию, поддаваясь давлению извне, либо идет на риск сопротивления обстоятельствам, который может стать смертельным.
В самоубийстве уступка внешним условиям и восстание против них объединяются в максимуме того и другого. Эпидемическим суицид бывает, вопреки мнению Дюркгейма, не только тогда, когда общество решительно перестраивается, но и тогда, когда оно застойно. У самоубийства два лица. Оно может явиться и приспосабливанием к ускорившейся истории, бросающим ей вызов (тем, что биология дефинирует как resistance adaptation41), и бунтом против безвременья, который поднимает человек, погрязший в этой обстановке и не знающий, чтó противопоставить ей, кроме добровольного ухода в небытие. В обоих вариантах самоубийство сложным образом сопряжено с конформизмом. Как смерть при жизни оно представляет собой крах конформистского расчета на спасение, на нахождение убежища в коллективе. Суицидальная личность отказывается от того нетворческого состояния, в каком находятся потерявшие самость, ради противотворчества – созидания собственной смерти.
Контракреативный потенциал конформизма, воплощающийся не в одном лишь суициде, но и в подражательстве, в порабощенности производительного сознания готовыми образцами, открылся авторам романтической эпохи, прежде всего Э. Т. А. Гофману, связавшему (в предвосхищении киномонтажа) контрапунктом в «Житейских воззрениях кота Мурра…» (1819, 1821) истории капельмейстера Иоганнеса Крейслера и его имитатора, покушающегося, несмотря на свое бестиальное происхождение, на литераторское участие в порождении духовной культуры. С замечательной интуитивной меткостью Гофман поместил приспособленца Мурра в промежуток между чисто биологическим существованием и человеческим инобытием-в-мире, между эволюцией и историей. В той мере, в какой романтизм тематизировал двойничество, он был поставлен перед необходимостью развести подлинник и копию в разные стороны, став первой эпохой, подвергшей конформизм, сколок с социализации, уничтожающей критике. Представитель сменившей романтизм позитивистской эры Дарвин взял назад – по контрасту с предшественниками – осуждение приспособленчества, придав адаптации, соглашательству особей с превосходящим их возможности окружением, противоречащее ей значение той силы, какая приводит в движение переходы из низших состояний одушевленной материи в высшие. (Преодоление природы социокультурой находит свое продолжение в том, что каждая эпоха по-своему проектирует присущую ей историческую субъективность в пресуществующий человеку мир.) Возведя в герои своей теории конформное существо, Дарвин обеспечил ей длительное признание, заразительно обольстив центральной в ней идеей приспособления новые поколения исследователей, принявшихся – соответственно – прилаживать его доктрину к прежде неизвестным эпохальным тенденциям и научным достижениям. Дарвинизм внедрил эволюционный принцип в историю сциентистских изысканий42.
Человек в «Происхождении видов» уменьшает действенность натуральной селекции, оберегает, одомашнивая животных, слабейших из них от истребления. В пику все тому же романтизму Дарвин оценивает социокультурную практику в том ее аспекте, в каком она оппонирует приспособленчеству, не без негативных коннотаций. Она не всегда отвечает универсальным законам природы. В приложениях дарвинизма к социокультуре ее противоестественное устройство рисуется как подлежащее преобразованию путем искусственного отбора, то есть посредством попрания ее сделанности сделанностью же. Изобретатель евгеники, двоюродный брат Дарвина Фрэнсис Гальтон, считавший, что natura humana должна быть улучшена за счет искоренения девиантности, предлагал лишить преступников права на «производство потомства»43. Отсюда тянется преемственная линия и к советской политико-социальной инженерии 1920‐х годов, отбраковывавшей неугодных власти лиц по классовому происхождению, и к нацистской эвтаназии, и к американскому бихевиоризму, пропагандировавшему в лице Берреса Фредерика Скиннера «…преднамеренный дизайн культуры и контроль над человеческим поведением»44. В «Человеческом, слишком человеческом» (1878–1880) Фридрих Ницше перенес дарвинизм в область философской антропологии, назвав человечество «фазой развития некоего определенного сорта зверя, ограниченной по длительности» и обвинив социокультуру в том, что она потворствует по ходу «борьбы за существование» выживанию «болезненных» натур, обратившихся из‐за своей ущербной конституции к духовной деятельности, – что и «делает всякий прогресс вообще возможным»45, движет историю вперед. Сергей Давиденков подхватил традицию Ницше, снабдив ее психостадиальным аргументом: ввиду отсутствия естественного отбора выдвинутую позицию в культуротворчестве захватывают душевно нездоровые персоны, приводящие его в шаманских культах «к организации неврозов в определенные большие системы»46.
Тоталитаризм стал реальным выводом из дарвинистски окрашенных нападок на социокультуру47. Этот строй сымитировал историческое общество, открытое в будущее, замкнув перспективу, сдвинув футурологический проект (коммунистический, расовый) в настоящее и отняв тем самым, как и всякое подражание, у своего образца предприимчивость, свободу развиваться спонтанно. Контракреативный, имитационный режим попытался предоставить всем членам общества сильную позицию, коль скоро они взяли верх над настоящим уже здесь и сейчас, а своих вождей возвел на ту ступень, на которой вершится imitatio Dei. Приостановив историю за счет осовременивания будущего, тоталитаризм превратился в как бы кастовое общество, разделенное на народную массу и партийную номенклатуру, с тем, однако, отличием от социальных систем с непроходимыми классовыми перегородками, что формировал элиту из представителей демоса. В принципе (но, конечно, не на деле) любой человек мог попасть в привилегированный (академический, управленческий, партийно-идеологический, охранительно-преторианский) слой общества. Оно мыслилось, таким образом, как среда, где финализуется отбор лучших экземпляров человеческого рода, где попросту не должно быть не приспособившихся к ней лиц. Подданные государства были стилизованы под его приемных детей, а социум – под большую семью, которую оно опекало в обмен на беспрекословное послушание. Тоталитарное государство ожидало от граждан отрешения от себя, так же как мистика подвигала людей к самозабвению ради того, чтобы они целиком открылись Богу (ясно, почему проповедовавший «нищету Духа» Майстер Экхарт получил высочайшую оценку в «Мифе ХX века» (1930) Альфреда Розенберга). Третьей quasi-кастой тоталитарного социума были узники трудового концлагеря, куда отправлялись те, кого полагали вовсе неподходящими для повышения в ранге, из кого складывалась минус-элита наказанных экскоммуницированием за неадаптивное поведение и умственные вольности. Адаптация всегда предполагает движение от особого к общему. В тоталитаризме части не просто интегрировались в целом, а сводились в нем к незначимости (по принципу totum pro parte). Общество сплошного конформизма находилось в непрерывном чрезвычайном положении, помимо которого нельзя было бы вообразить, что тоталитарное правление гарантирует всякому человеку из низов возможность подъема на высшие уровни социальной иерархии. Свою легитимацию чрезвычайное положение утверждало посредством того, что общество подвергалось экстремальному испытанию войной – внешней и внутренней (террором). Сторонникам тоталитаризма его мобилизационный характер казался непременной предпосылкой для достижения государственной властью полной суверенности – Карл Шмитт положил этот тезис в основу своей философии права, которую он начал излагать в «Политической теологии» (1922–1923). После того как тоталитаризм вошел в полосу кризисов, Жорж Батай, неафишированно полемизируя со Шмиттом, определил суверенность (в одноименном трактате, 1953–1956) как свойство каждого (для себя ценного) человека и увидел в сталинизме, похитившем у людей свободную инициативу, нивелировавшем их, самоотречение субъектов от своей власти над собой (суверенный подрыв суверенности). Двинемся вслед за Батаем: диалектика завершаемого в мобилизационном штурме отбора такова, что он дает власть подчиняющимся ей и тем самым подтачивает тоталитарное правление, делает его имплозивным, изнутри разваливающимся, омнипотентным лишь мнимо. Тоталитаризм – царство слабых, сговорчивых с фантомной идеологией индивидов, выданных за сильнейших в планетарной конкуренции. По своей сущности он суицидален без намерения лишить себя жизни, производителен в самоуничтожении.
Интеллектуальное восстание против тоталитаризма выдвинуло в нем поначалу на передний план деструктивность готовых принять этот порядок личностей. По Эриху Фромму, они страдают «симбиотическим комплексом»48, вынуждающим их либо к автонегативности, либо к разрушению объекта, на котором они фиксированы. И в том и в другом случае у индивидов, чей отправной пункт – их зависимость от внешних детерминант, нет стимула для самостановления. Однозначный протест против тоталитарной социокультуры привел ее в творчески опустошенное состояние. При таком подходе конформист, как его квалифицировал Кларк Мустакас, – в первую очередь человек, лишенный креативного дара, не использующий «ресурсы», которыми он располагает49. Это мнение односторонне. Разве в тоталитаризме не было ничего конструктивного? Как бы он мог иначе явиться на свет для весьма длительного в СССР существования? Адаптация – один из видов креативного акта, в котором творчество получает паразитарные черты, делается контрарным себе, но не аннулируется. Она – уточним Фромма – вписывает конформиста в симбиоз, не исключая, однако, того, что эта ситуация будет по-своему продуктивной. Будучи контрапозиционированным у приспособленца, самосознание, которое ведет свой отсчет от «я»-объекта к «я»-субъекту, созидает себя в Другом, питается собранными у того запасами. Такого рода плодовитость есть присвоение себе субъектом чужой собственности и оперирование ею. (Расквитываясь с тоталитаризмом, Мишель Серр обвинит в паразитизме человека как такового, как если бы тот всегда только то и делал, что жил за чужой счет50.) Неважно, в какой форме выражается апроприация, она всегда приписывает подобию превосходство над оригиналом (откуда проистекала, среди прочего, сталинистская борьба за русский приоритет в области научных и технических новшеств). Доведенный до логического конца адаптогенез предусматривал исчерпание, гибель оригинала в продукте подражания, что объясняет распространение темы смерти автора («Смерть Вазир-Мухтара» Юрия Тынянова и многое сходное) в советском искусстве (словесном и изобразительном) при переходе от авангардной к тоталитарной эстетике, совершавшемся во второй половине 1920‐х годов и позднее51. Тоталитаризм с его приурочиванием будущего к настоящему предпринимал бегство из вечно внезапной, противящейся планированию истории, осуществляемое внутри нее, в ее творческом контексте, не обогащаемом, однако, небывалыми вкладами, а истощаемом, нещадно эксплуатируемом52. Покидание истории явилось в то же самое время ее узурпированием, ее сгущением в момент растраты накопленной ею собственности.
Заполонивший в 1960–1970‐х годах евроамериканские умы постмодернизм локализовал себя в связном отталкивании от тоталитарных режимов и вовсе по ту сторону истории, за ее крайним рубежом и придал – сообразно с этим – культу конформизма, ожидаемого государством от подданных, обратный ход, потребовав от общества приспособления к исключительно и непревозмогаемо индивидному. История, которую нельзя продолжить, должна была поменять местами вход и выход своего последнего состояния, пойти на попятную. Отщепенцев, которых общество не должно было бы низводить до жертв неумолимой сегрегации, Мишель Фуко нашел среди душевнобольных («История безумия классической эпохи», 1961) и преступников («Надзирать и наказывать», 1975). Жан-Франсуа Лиотар разработал проект такого социального устройства, в котором будут учтены собственные интересы разного рода меньшинств («Состояние постмодерна», 1979). Как публично-хоровое пространство вберет в себя голоса интимности и каков тот коллектив, в котором будет торжествовать индивид, – вот предмет утопических раздумий Юргена Хабермаса («Структурное изменение публичной сферы», 1962), Жака Деррида («Политика дружбы», 1994) и Джорджо Агамбена («Грядущее сообщество», 2001). Только если объединение людей станет событием, происходящим от случая к случаю, перестав быть бытием самости, отданным Другому, единичное уравновесится с коммунальным, – таков ход мысли Жан-Люка Нанси («Непроизводная община» = «La communauté désœuvrée», 1986). С этой перестройкой тоталитарного порядка, развернувшейся на его территории, коррелировали проводившиеся за его границей критика конформизма (представленного прежде всего как потребительское сознание, которое поощряется капиталистическим обществом) и глорификация протестных субкультур (что привело, в частности, к возникновению «Ситуационистского интернационала», откликнувшегося на идеи Ги Дебора, которые он высказал в антиконсюмеристском сочинении «Общество спектакля», 1967).
Раз обществу предназначалось быть адаптированным к его сохраняющим автономию членам, его самого дóлжно было истолковать как феномен приспособления. От раннего постмодернизма оставался только один шаг до появления экологической доктрины, пустившей в рост свою убедительность по мере того, как индустриальное вмешательство в природу делало ее все более и более опасной для человека. Новый конформизм контрастирует со старым, тоталитарным в том отношении, что не переводит человека из слабого положения в сильное, сверхчеловеческое, а, напротив того, зовет нас к самоподавлению, к сокращению наших производительно-потребительских амбиций в пользу оберегания Земли. Экологическое сознание пришло на смену подготовившему тоталитарные режимы и усвоенному ими геополитическому мышлению, которое, как и наша современность, отстаивало «инвайронментальный детерминизм», выводя отсюда, однако, умозаключение о неизбежности конфликтов между обществами, несходными по «месторазвитию», а не о необходимости их совместного примирения с естественным окружением. Приспособительное выживание глобального общества решает теперь не столько эволюционную, сколько инволюционную задачу, предполагающую вычитание – с помощью всяческих запретов – обретенных им прежде признаков и в конечном счете его отказ от той власти над средой, которой добивались и эволюция, и история. Последняя задыхается в первой, которую она реверсирует. Сопряженно с пересмотренным конформизмом natura humana не извращается более техникой, не претерпевает от нее ущерба, приналаживаясь к ней. Коммуникативная техника служит в социальных сетях средством установления некой антропологической справедливости, карая в недавно захватившей их cancel culture отлучением от общества тех лиц, которые нарушают «политическую корректность», неосторожно прибегая к изгнанным из оборота за пейоративность обозначениям национальных и сексуальных меньшинств. Интернет стал местом непримиримости к инакомыслящим, пусть даже их семиотическая точка зрения морально сомнительна (впрочем, и упреки, бросаемые отступникам от правил «языковых игр», не всегда адекватны). Немудрено, что в дигитальном общении царят hate speech и mobbing. Архив в интернете столь же актуален, как и злободневная информация. Дигитальная машина перерабатывает настоящее в прошлое, уравновешивает то и другое, не имея зоны будущего, то есть оппонирует истории.
3
Как не быть собой, чтобы быть. Если дифференцировать социализацию и конформизм в кратчайшей формуле, то следует сказать, что у нас есть два подступа к навязываемой нам организацией общества роли: или мы владеем ею, или она порабощает нас в победе типового над индивидным. Пуститься во второй из названных путей, ведущих в сферу межличностных взаимодействий, личность часто вынуждает социальный террор, но она и сама может отдавать предпочтение конформизму перед социализацией. В том случае, когда социология, толкуя приспособленчество, не довольствуется указанием на то, что оно вызывается стрессом, испытываемым отдельным человеком со стороны коллектива, жаждущего унификации во что бы то ни стало, оно часто объясняется желанием самости обрести в обществе престижность, статусность53. Наряду с охотой за престижем, в побудительные к конформизму мотивы зачисляют и установку индивидов на «аффилиацию»54, то есть их намерение войти в особо тесную и доверительную связь с прочими членами коллектива. Первая из этих моделей отправляет нас к гегелевской философии, умалившей единичное тем, что императивно обязала частноопределенное лицо искать «признание» у того Другого, каковое оно рассмотрит не «как существо, а как само себя в Другом»55. Абстрагироваться от себя в качестве обладателя статуса человек под таким углом зрения может, лишь получив от «генерализованного Другого» наследующее церковному благословлению «признание» (которое Александр Кожев возведет в Сорбонских лекциях (1933–1939) и во «Введении в чтение Гегеля» (1947) в ранг главной категории «Феноменологии Духа»). Вторая интерпретация конформной личности восходит к идеям Фердинанда Тённиса, противопоставившего общину и общество (в одноименном трактате «Gemeinschaft und Gesellschaft», 1887) как естественное и искусственное образования. Тогда как в общине, вызревающей из кровного родства, преобладает единая воля к жизни, в исторически продвинутом обществе (которое Тённис отвергает, подобно социал-дарвинистам) доминирует произвол, порожденный конкуренцией обогащающихся собственников. Конформисту, присоединяющемуся к обществу в порядке «аффилиации», хотелось бы, стало быть, вернуть его к тому состоянию, в каком находилась община с ее консенсусом и близостью людей друг к другу. Обе концепции конформизма специфицируют его недостаточно отчетливо, без однозначности. К социальному признанию может стремиться и тот, кто подчиняет роль самости в склонности к личному творчеству, к авторству, вовсе не опустошая себя. Интимизации социальных отношений взыскует не только конформист, но и всякий, кто восполняет свое официальное поведение в дружеском общении.
Источник беспримесного конформизма – в схватывании субъектом себя от автообъектности. Отправное позиционирование субъекта сводится тогда к тому, что он просто есть и не может не быть (отчего его и пугает мысль о смерти при жизни). Его включение в социум – это «событие бытия», происходящее как само собой разумеющееся. Конформист совместим с остальными исполнителями социальной драмы, потому что они для него отнюдь не сценические персонажи, а принадлежат сущему, как и он сам. Он онтологизирует общество. Социально значимым действиям конформиста довлеет modus vivendi, a не modus operandi. В своей крайней манифестации конформизм, строго говоря, не столько уступка себя среде, сколько неразличение «я» и «не-я» (притом, что последнее сразу и социально, и отприродно). Искание себя в Другом у Гегеля диалектично и тем самым исторично. Конформизм же недальновидно отстает от истории, завоевывающей свой плацдарм в дотоле неизвестном. Raison d’être приспособленчества обычно понимается в виде потребности индивида усилить себя за счет групповой мощи. На самом деле конформист самосилен в своей бытийности. Он и есть сама сила социального. Он социализован до социализации, неотрывен от группы, потому что групповое начало пребывает в нем не на выходе, а на входе его самосознания56. Перед нами не архаическая социализация, выражавшая себя в посвятительных церемониях, в процессе которых подростки, чтобы попасть в мир взрослых, претерпевали телесные увечья, проходили через искусственную смерть, теряли идентичность, уже нажитую в имманентной нам авторефлексии. Хотя бессамостно типовое поведение и задерживает человека перед порогом, который предстоит переступить истории, оно не знаменует собой возрождения ранних обществ. В явлении конформизма мы имеем дело с массовым человеком – с продуктом, не продуцентом исторических изменений, с существом, причащенным социальности без инициации. Сказанное не означает, что конформист непременно растворяется в толпе, как изображали массу ее первые исследователи, Николай Михайловский («Герои и толпа», 1882), Сципион Сигеле («Преступная толпа», 1891), Гюстав Лебон («Психология масс», 1895), Габриэль Тард («Общественное мнение и толпа», 1898, 1901), или в идеологически организованном коллективном теле, к которому обратился в «Восстании масс» (1930) Хосе Ортега-и-Гассет, или в безликом скопище потребителей капиталистического производства, пристыженных критиками культурной индустрии и консюмеризма, или в стадном союзе людей, избавляющихся у Элиаса Канетти («Масса и власть», 1960) от контагиозного страха57. Масса существует и в разрозненном состоянии, в виде единообразного стиля жизни, который ведут ее disjecta membra. Массовым человек становится, не только вступая в непосредственный контакт с партнерами, но и заражаясь тем, что когда-то именовалось «веяниями времени», подражая образцам на расстоянии от них (поддаваясь пропаганде, рекламе, моде, господствующему мнению). К массе принадлежит и бюрократ, как будто возвысившийся над ней, но лишь для того, чтобы обезличить по полученным им предписаниям каждого, кто к нему обращается, и себя заодно. Конформизм – предпосылка для возникновения массы в том или ином ее варианте. Формируя массу, конформный индивид входит в образ как таковой, принимает на себя роль in abstracto, ибо, какой бы она ни была (болельщика ли на футбольном стадионе, участника ли политического марша, потребителя ли продуктов индустриального производства и т. п.), актер не имеет возможности качественно конкретизировать ее персональным почином. Массовость делает социальность с ее разнообразием театральных перевоплощений сценой, где разыгрывается одна и только одна роль, суть которой в том, что ее исполнитель не должен быть самим собой. В своей безальтернативности и бессубъектности такого рода роль и оказывается бытийной. Конформист адаптируется к бытию (он самосилен, оно всемогуще), трактуя общество в качестве здесь-бытия (Dasein), которое Мартин Хайдеггер определил перед началом Второй мировой войны как не «попросту» обнаруживаемое «в наличном человеке», но как «принудительно вызывающую событие основу истины протобытия (des Seyns)»58. Стоит ли удивляться тому, что Хайдеггер, поставивший в своей онтологии Dasein в выдвинутую позицию, принял в 1933 году пост ректора Фрайбургского университета, произнеся по вступлении в должность верноподданническую речь, проникнутую духом повиновения захватившему власть в Германии нацизму?59







