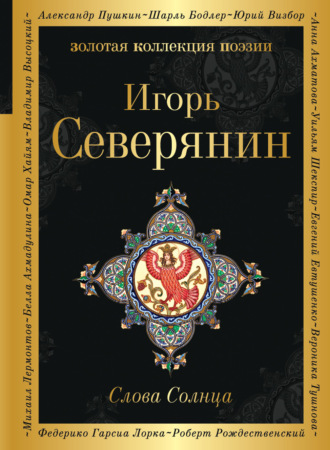
Игорь Северянин
Слова Солнца
Оформление серии Н. Ярусовой
В оформлении переплета использованы фрагменты работы художника Ивана Билибина
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021
* * *
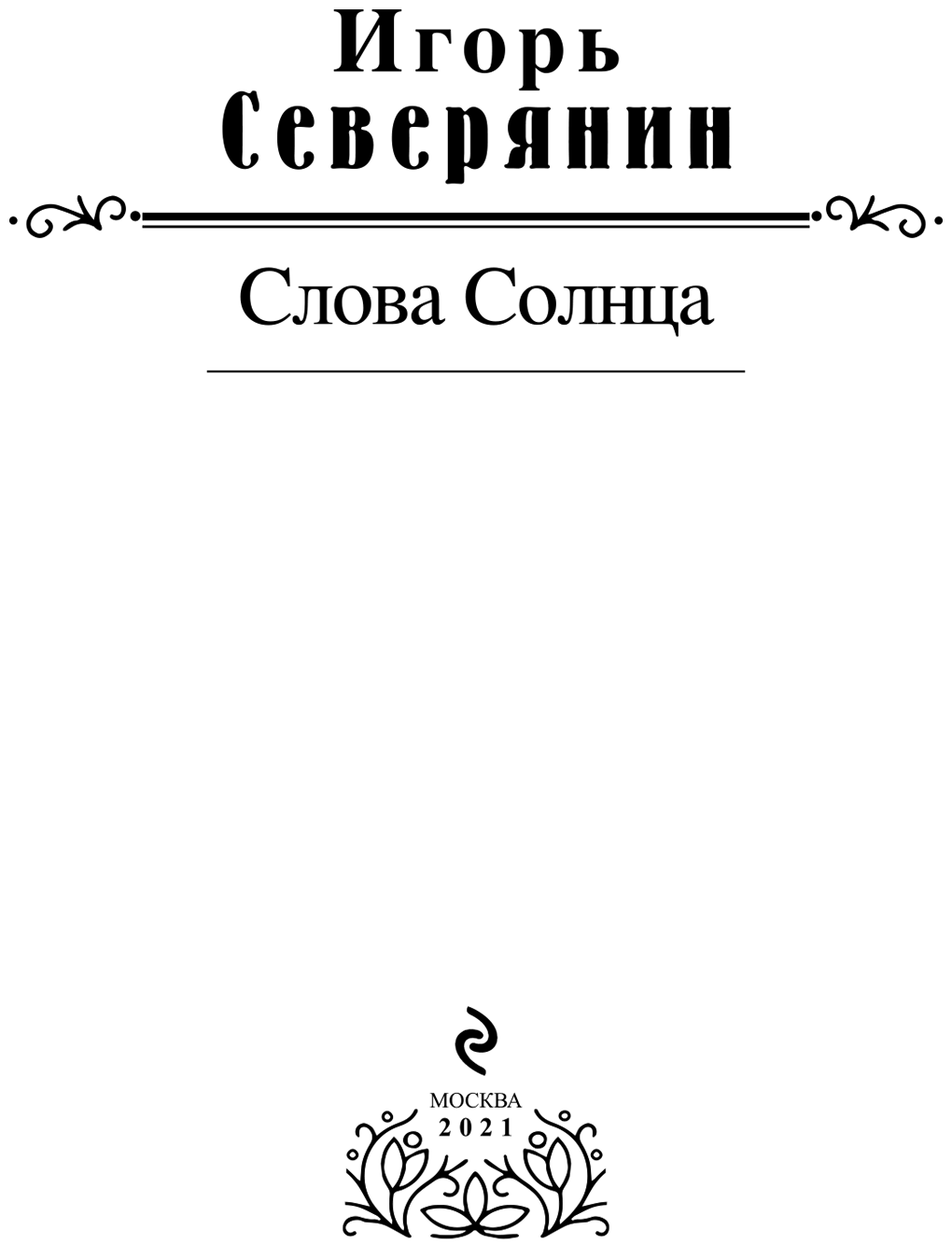
Я – противник автопредисловий: мое дело – петь, дело критики и публики судить мое пение. Но мне хочется раз навсегда сказать, что я, очень строго по-своему, отношусь к своим стихам и печатаю только те поэзы, которые мною не уничтожены, т. е. жизненны. Работаю над стихом много, руководствуясь только интуицией; исправлять же старые стихи, сообразно с совершенствующимся все время вкусом, нахожу убийственным для них: ясно, в свое время они меня вполне удовлетворяли, если я тогда жe их не сжег. Заменять же какое-либо неудачное, того периода, выражение «изыском сего дня» – неправильно: этим умерщвляется то, сокровенное, в чем зачастую нерв всей поэзы. Мертворожденное сжигается мною, а если живое иногда и не совсем прекрасно, – допускаю, даже уродливо, – я не могу его уничтожить: оно вызвано мною к жизни, оно мне мило, наконец, оно – мое!
Игорь-Северянин
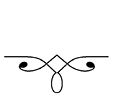
Из книги «Громокипящий кубок»
1913 г.
Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь на землю пролила.
Ф. Тютчев
Очам твоей души
Очам твоей души – молитвы и печали.
Моя болезнь, мой страх, плач совести моей,
И все, что здесь в конце, и все, что здесь в начале, –
Очам души твоей…
Очам души твоей – сиренью упоенье
И литургия[1] – гимн жасминовым ночам;
Все-все, что дорого, что будит вдохновенье, –
Души твоей очам!
Твоей души очам – видений страшных клиры…[2]
Казни меня! пытай! замучай! задуши! –
Но ты должна принять!.. И плач, и хохот лиры –
Очам твоей души!..
1909
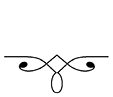
Ее монолог
Не может быть! вы лжете мне, мечты!
Ты не сумел забыть меня в разлуке…
Я вспомнила, когда в приливе муки,
Ты письма сжечь хотел мои… сжечь!.. ты!..
Я знаю, жгут бесценные дары:
Жжет молния надменные вершины,
Поэт – из перлов бурные костры,
И фабрикант – дубравы для машины;
Бесчувственные люди жгут сердца,
Забывшие для них про все на свете;
Разбойник жжет святилище дворца,
Гордящегося пиршеством столетий;
И гении сжигают мощь свою
На алкоголе – символе бессилья…
Но письма сжечь, – где я тебе пою
Свою любовь! Где распускаю крылья!
Их сжечь нельзя – как вечной красоты!
Их сжечь нельзя – как солнечного неба!
В них отзвуки Эдема и Эреба…
Не может быть! Вы лжете мне, мечты!
1909
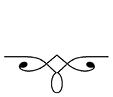
Весенний день
Дорогому К. М. Фофанову[3]
Весенний день горяч и золот, –
Весь город солнцем ослеплен!
Я снова – я: я снова молод!
Я снова весел и влюблен!
Душа поет и рвется в поле,
Я всех чужих зову на «ты»…
Какой простор! какая воля!
Какие песни и цветы!
Скорей бы – в бричке по ухабам!
Скорей бы – в юные луга!
Смотреть в лицо румяным бабам!
Как друга, целовать врага!
Шумите, вешние дубравы!
Расти, трава! цвети, сирень!
Виновных нет: все люди правы
В такой благословенный день!
1911
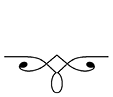
В березовом коттэдже
На северной форелевой реке
Живете вы в березовом коттэдже[4].
Как Богомать великого Корреджи[5],
Вы благостны. В сребристом парике
Стряхает пыль с рельефов гобелена
Дворецкий ваш. Вы грезите, Мадлена,
Со страусовым веером в руке.
Ваш хрупкий сын одиннадцати лет
Пьет молоко на мраморной террасе;
Он в землянике нос себе раскрасил;
Как пошло вам! Вы кутаетесь в плэд
И, с отвращеньем, хмуря чернобровье,
Раздражена, теряя хладнокровье,
Вдруг видите брильянтовый браслет,
Как бракоцепь, повиснувший на кисти
Своей руки: вам скоро… много лет,
Вы замужем, вы мать… Вся радость –
в прошлом,
И будущее кажется вам пошлым…
Чего же ждать? Но морфий –
или выстрел?..
Спасение – в безумьи! Загорись,
Люби меня, дающего былое.
Жена и мать! Коли себя иглою,
Проснись любить! Смелее в свой каприз!
Безгрешен грех – пожатие руки
Тому, кто даст и молодость, и негу…
Мои следы к тебе одной по снегу
На берега форелевой реки!
1911

Это все для ребенка
О, моя дорогая! ведь теперь еще осень,
ведь теперь еще осень…
А увидеться с вами я мечтаю весною,
бирюзовой весною…Что ответить мне сердцу, безутешному сердцу, если сердце вдруг спросит,
Если сердце простонет: «Грезишь мраком
зеленым?
грезишь глушью лесною?»
До весны мы в разлуке. Повидаться не можем.
Повидаться нельзя нам.
Разве только случайно. Разве только в театре.
Разве только в концерте.
Да и то бессловесно. Да и то беспоклонно.
Но зато – осиянным
И брильянтовым взором обменяться
успеем… –
как и словом в конверте…
Вы всегда под охраной. Вы всегда под
надзором.
Вы всегда под опекой.
Это все для ребенка… Это все для ребенка…
Это все для ребенка…
Я в вас вижу подругу. Я в вас женщину вижу.
Вижу в вас человека.
И мне дорог ваш крестик, как и ваша
слезинка,
как и ваша гребенка…
1911
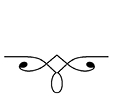
Янтарная элегия
Деревня, где скучал Евгений,
Была прелестный уголок.
А. Пушкин
Вы помните прелестный уголок –
Осенний парк в цвету янтарно-алом?
И мрамор урн, поставленных бокалом
На перекрестке палевых дорог?
Вы помните студеное стекло
Зеленых струй форелевой речонки?
Вы помните комичные опенки
Под кедрами, склонившими чело?
Вы помните над речкою шалэ[6],
Как я назвал трехкомнатную дачу,
Где плакал я от счастья и заплачу
Еще не раз о ласке и тепле?
Вы помните… О да! забыть нельзя
Того, что даже нечего и помнить…
Мне хочется Вас грезами исполнить
И попроситься робко к Вам в друзья…
1911
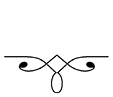
Стансы
Простишь ли ты мои упреки,
Мои обидные слова?
Любовью дышат эти строки,
И снова ты во всем права!
Мой лучший друг, моя святая!
Не осуждай больных затей;
Ведь я рыдаю, не рыдая.
Я, человек не из людей!..
Не от тоски, не для забавы
Моя любовь полна огня:
Ты для меня дороже славы!
Ты – все на свете для меня!
Я соберу тебе фиалок
И буду плакать об одном:
Не покидай меня! – я жалок
В своем величии больном…
1911
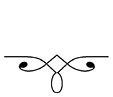
Лесофея
Она читает зимой Евангелье,
Она мечтает о вешнем ангеле.
Душой поэта и аполлонца
Все ожидает литавров солнца!
Умом ребенок, душою женщина,
Всегда капризна, всегда изменчива,
Она тоскует о предвесеньи,
О незабудках, о росной сени…
И часто в ложе, на пестрой опере,
Когда ей сердце мечты отропили,
Она кусает платок, бледнея, –
Дэмимонденка[7] и лесофея!..
1912
Рондели[8]
Нарцисс Сарона[9] – Соломон –
Любил Балькис[10], царицу Юга.
Она была его супруга.
Был царь, как раб, в нее влюблен.
В краю, где пальмы и лимон,
Где грудь цветущая упруга.
Нарцисс Сарона, Соломон,
Любил Балькис, царицу Юга.
Она цвела, как анемон,
Под лаской царственного друга.
Но часто плакал от испуга,
Умом царицы ослеплен,
Великолепный Соломон…
1911

В очарованьи
Быть может оттого, что ты не молода,
Но как-то трогательно-больно моложава,
Быть может оттого я так хочу всегда
С тобою вместе быть; когда смеясь лукаво,
Раскроешь широко влекущие глаза
И бледное лицо подставишь под лобзанья,
Я чувствую, что ты – вся нега, вся гроза,
Вся – молодость, вся – страсть; и чувства
без названья
Сжимают сердце мне пленительной тоской,
И потерять тебя – боязнь моя безмерна…
И ты, меня поняв, в тревоге, головой
Прекрасною своей вдруг поникаешь нервно, –
И вот другая ты: вся – осень, вся покой…
1912
Весенняя яблоня
Акварель
Перу И. И. Ясинского[11] посвящаю
Весенней яблони в нетающем снегу
Без содрогания я видеть не могу:
Горбатой девушкой – прекрасной,
но немой –
Трепещет дерево, туманя гений мой…
Как будто в зеркало – смотрясь в широкий
плес,
Она старается смахнуть росинки слез,
И ужасается, и стонет, как арба,
Вняв отражению зловещего горба.
Когда на озеро слетает сон стальной,
Бываю с яблоней, как с девушкой больной,
И, полный нежности и ласковой тоски,
Благоуханные целую лепестки.
Тогда доверчиво, не сдерживая слез,
Она касается слегка моих волос,
Потом берет меня в ветвистое кольцо, –
И я целую ей цветущее лицо…
1910
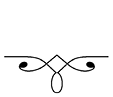
На реке форелевой
На реке форелевой, в северной губернии, В лодке, сизым вечером, уток не расстреливай. Благостны осенние отблески вечерние
В северной губернии, на реке форелевой.
На реке форелевой в трепетной осиновке
Хорошо мечтается над крутыми веслами.
Вечереет холодно. Зябко спят малиновки.
Скачет лодка скользкая камышами рослыми.
На отложье берега лен расцвел мимозами,
А форели шустрятся в речке грациозами.
1911

Январь
Январь, старик в державном сане,
Садится в ветровые сани, –
И устремляется олень,
Воздушней вальсовых касаний
И упоительней, чем лень.
Его разбег направлен к дебрям,
Где режет он дорогу вепрям[12],
Где глухо бродит пегий лось,
Где быть поэту довелось…
Чем выше кнут, – тем бег проворней,
Тем бег резвее; все узорней
Пушистых кружев серебро.
А сколько визга, сколько скрипа!
То дуб повалится, то липа –
Как обнаженное ребро.
Он любит, этот царь-гуляка,
С душой надменного поляка,
Разгульно-дикую езду…
Пусть душу грех влечет к продаже:
Всех разжигает старец, – даже
Небес полярную звезду!
1910
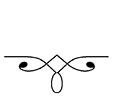
Пляска мая
В могиле мрак, в объятьях рай,
Любовь – земли услада!..
Ал. Будищев[13]
Вдалеке от фабрик, вдалеке от станций,
Не в лесу дремучем, но и не в селе –
Старая плотина, на плотине танцы,
В танцах поселяне, все навеселе.
Покупают парни у торговки дули[14],
Тыквенное семя, карие рожки.
Тут беспопья свадьба, там кого-то вздули.
Шепоты да взвизги, песни да смешки.
Точно гуд пчелиный – гутор[15] на полянке:
«Любишь ли, Акуля?» – «Дьявол, не замай!..»
И под звуки шустрой, удалой тальянки[16]
Пляшет на плотине сам царевич Май.
Разошелся браво пламенный красавец,
Зашумели липы, зацвела сирень!
Ветерок целует в губы всех красавиц,
Май пошел вприсядку в шапке набекрень.
Но не видят люди молодого Мая,
Чувствуя душою близость удальца,
Весела деревня, смутно понимая,
Что царевич бросит в пляске два кольца.
Кто поднимет кольца – жизнь тому забава!
Упоенье жизнью не для медных лбов!
Слава Маю, слава! Слава Маю, слава!
Да царят над миром Солнце и Любовь!
1910
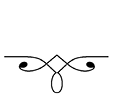
В парке плакала девочка
Всеволоду Светланову
В парке плакала девочка: «Посмотри-ка ты, папочка,
У хорошенькой ласточки переломлена лапочка, –
Я возьму птицу бедную и в платочек укутаю…»
И отец призадумался, потрясенный минутою,
И простил все грядущие и капризы, и шалости
Милой, маленькой дочери, зарыдавшей от жалости.
1910

Ты ко мне не вернешься…
Злате[17]
Ты ко мне не вернешься даже ради Тамары,
Ради нашей дочурки, крошки вроде крола:
У тебя теперь дачи, за обедом – омары,
Ты теперь под защитой вороного крыла…
Ты ко мне не вернешься: на тебе теперь бархат;
Он скрывает бескрылье утомленных плечей…
Ты ко мне не вернешься: предсказатель
на картахПогасил за целковый вспышки поздних лучей!..
Ты ко мне не вернешься, даже… даже проститься,
Но над гробом обидно ты намочишь платок…
Ты ко мне не вернешься в тихом платье из ситца,
В платье радостно-жалком, как грошовый цветок.
Как цветок… Помнишь розы из кисейной бумаги?
О живых ни полслова у могильной плиты!
Ты ко мне не вернешься: грезы больше не маги, –
Я умру одиноким, понимаешь ли ты?!
1910
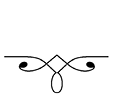
Мороженое из сирени
– Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!
Полпорции десять копеек, четыре копейки буше[18].
Сударыни, судари, надо ль? – не дорого – можно без прений…
Поешь деликатного, площадь: придется товар по душе!
Я сливочного не имею, фисташковое все распродал…
Ах, граждане, да неужели вы требуете крэм-брюле?
Пора популярить изыски, утончиться вкусам народа,
На улицу специи кухонь, огимнив эксцесс в верилэ![19]
Сирень – сладострастья эмблема.
В лилово-изнеженном крене
Зальдись, водопадное сердце, в душистый и сладкий пушок…
Мороженое из сирени, мороженое из сирени!
Эй, мальчик со сбитнем[20], попробуй!
Ей-Богу, похвалишь, дружок!
1912

Фиолетовый транс
О, Лилия ликеров, – о, Crème de Violette![21]
Я выпил грез фиалок фиалковый фиал…
Я приказал немедля подать кабриолет[22]
И сел на сером клене в атласный интервал.
Затянут в черный бархат, шоффэр – и мой
клеврет[23] –
Коснулся рукоятки, и вздрогнувший мотор,
Как жеребец заржавший, пошел на весь простор,
А ветер восхищенный сорвал с меня берэт.
Я приказал дать «полный». Я нагло приказал
Околдовать природу и перепутать путь!
Я выбросил шоффэра, когда он отказал, –
Взревел! и сквозь природу – вовсю
и как-нибудь!
Встречалась ли деревня, – ни голосов, ни изб!
Врезался в чернолесье, – ни дерева, ни пня!
Когда б мотор взорвался, я руки перегрыз б!..
Я опьянел грозово, все на пути пьяня!..
И вдруг – безумным жестом остолблен
кленоход:
Я лилию заметил у ската в водопад.
Я перед ней склонился, от радости горбат,
Благодаря за встречу, за благостный исход…
Я упоен. Я вещий. Я тихий. Я грезэр.
И разве виноват я, что лилии колет[24]
Так редко можно встретить, что путь без лилий сер?
О, яд мечты фиалок, – о, Crème de Violette…
1911

Это было у моря
Поэма-миньонет[25]
Это было у моря, где ажурная пена,
Где встречается редко городской экипаж…
Королева играла – в башне замка – Шопена,
И, внимая Шопену, полюбил ее паж.
Было все очень просто, было все очень мило:
Королева просила перерезать гранат;
И дала половину, и пажа истомила,
И пажа полюбила, вся в мотивах сонат.
А потом отдавалась, отдавалась грозо́во,
До восхода рабыней проспала госпожа…
Это было у моря, где волна бирюзова,
Где ажурная пена и соната пажа.
1910
Клуб дам
Я в комфортабельной карете, на эллипсических рессорах,
Люблю заехать в златополдень на чашку чая в жено-клуб,
Где вкусно сплетничают дамы о светских дрязгах и о ссорах,
Где глупый вправе слыть не глупым, но умный непременно глуп…
О, фешенебельные темы! от вас тоска моя развеется!
Трепещут губы иронично, как земляничное
желе… – Индейцы – точно ананасы, и ананасы – как индейцы…
Острит креолка, вспоминая об экзотической земле.
Градоначальница зевает, облокотясь на пианино,
И смотрит в окна, где истомно бредет хмелеющий Июль.
Вкруг золотеет паутина, как символ ленных пленов сплина[26],
И я, сравнив себя со всеми, люблю клуб дам не потому ль?..
1912
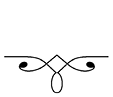
Когда придет корабль
Вы оделись вечером кисейно
И в саду стоите у бассейна,
Наблюдая, как лунеет мрамор
И проток дрожит на нем муаром.
Корабли оякорили бухты:
Привезли тропические фрукты,
Привезли узорчатые ткани,
Привезли мечты об океане.
А когда придет бразильский крейсер,
Лейтенант расскажет Вам про гейзер,
И сравнит… но это так интимно!..
Напевая нечто вроде гимна.
Он расскажет о лазори Ганга,
О проказах злых орангутанга,
О циничном африканском танце
И о вечном летуне – «Голландце».
Он покажет Вам альбом Камчатки,
Где еще культура не в зачатке,
Намекнет о нежной дружбе с гейшей,
Умолчав о близости дальнейшей…
За моря мечтой своей зареяв,
Распустив павлиньево свой веер,
Вы к нему прижметесь в теплой
дрожи,
Полюбив его еще дороже…
1911
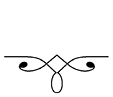
Nocturno[27]
Навевали смуть былого окарины[28]
Где-то в тихо вечеревшем далеке, –
И сирены, водяные балерины,
Заводили хороводы на реке.
Пропитались все растенья соловьями
И гудели, замирая, как струна.
А в воде – в реке, в пруде, в озерах, в яме –
Фонарями разбросалася луна.
Засветились на танцующей сирене
Водоросли под луной, как светляки.
Захотелось белых лилий и сирени, –
Но они друг другу странно далеки…
1909
Квадрат квадратов[29]
Никогда ни о чем не хочу говорить…
О поверь! – я устал, я совсем изнемог…
Был года палачом, – палачу не парить…
Точно зверь, заплутал меж поэм и тревог…
Ни о чем никогда говорить не хочу…
Я устал… О, поверь! изнемог я совсем…
Палачом был года – не парить палачу…
Заплутал, точно зверь, меж тревог и поэм.
Не хочу говорить никогда ни о чем…
Я совсем изнемог… О, поверь! я устал…
Палачу не парить!.. был года палачом…
Меж поэм и тревог, точно зверь, заплутал.
Говорить не хочу ни о чем никогда!..
Изнемог я совсем, я устал, о поверь!
Не парить палачу! палачом был года!..
Меж тревог и поэм заплутал, точно зверь!..
1910
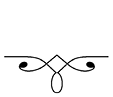
Соната в шторм
На Ваших эффектных нервах звучали
всю ночь сонаты,
А Вы возлежали на башне на ландышевом
ковре…
Трещала, палила буря, и якорные канаты,
Как будто титаны-струны, озвучивали
весь корвет.
Но разве Вам было дело, что где-то рыдают
и стонут,
Что бешеный шторм грохочет, бросая
на скалы фрегат.
Вы пили вино мятежно, Вы брали
монбланную ноту!
Сверкали агаты брошек, но ярче был
взоров агат!
Трещала, палила буря. Стонала дворцовая
пристань.
Кричали и гибли люди. Корабль набегал
на корабль.
А Вы, семеня гранаты, смеясь, целовали
артиста…
Он сел за рояль, как гений, – окончил игру,
как раб…
1911
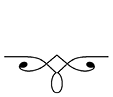
Врубелю
Так тихо-долго шла жизнь на убыль
В душе, исканьем обворованной…
Так страстно-тихо растаял Врубель,
Так безнадежно очарованный…
Ему фиалки струили дымки
Лица трагически-безликого…
Душа впитала все невидимки,
Дрожа в преддверии великого…
Но дерзновенье слепило кисти,
А кисть дразнила дерзновенное…
Он тихо таял, – он золотистей
Пылал душою вдохновенною…
Цветов побольше на крышку гроба:
В гробу – венчанье!.. Отныне оба –
Мечта и кисть – в немой гармонии,
Как лейтмотив больной симфонии.
1910





