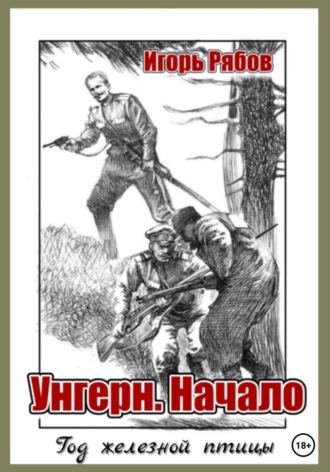
Игорь Олегович Рябов
Год железной птицы. Часть 1. Унгерн. Начало
– Махакала…
Глава первая
Станция Даурия, 60 верст до границы с Монголией.
1908 годъ.
В полковой канцелярии сумрачно и стоит тишина такого рода, при которой любые звуки слышатся будто бы из-за глухой стены. Приглушенно бубнят писари, переговариваясь то ли о фуражных ведомостях, то ли о хлебном квасе. Обстановку не оживляют даже и солнечные лучи, бьющие пучками сквозь тусклые оконные стекла. Внутри их золотистых струй пляшут миллионы микроскопических пылинок. Углы комнат изъявляют полную готовность хотя бы и прямо сейчас испытать на себе воздействия половой щетки. Под столами – изобилие бумажных клочков, карандашных огрызков, окаменелых кусочков провизии и еще всякой ерунды. Сами столы, правда, дивно хороши, изготовленные с изрядным усердием из старого кедра и отлакированные с таким тщанием, как не лакируются даже и паркеты в домах курских помещиков.
В кабинете же полкового командира, узком и вытянутом, будто пенал, тишина совсем уж неживая. Правда, казенная обстановка, как нельзя лучше подходит к этому безмолвию. По всему было видно, что главное помещение полка видывало и лучшие времена. Стены, выкрашенные некогда очень красиво желтенькой краской, имеют потертости в тех местах, где прислоняются офицеры, рассаживаясь по стульям во время совещаний. Выше потертостей, развешано несколько старинных карт и потемневших от воздействия времени литографических картинок. Литографии остались от бывшего командира 1-го Аргунского полка полковника Крымова, любителя искусства с военным уклоном. Одна из них изображает картину Гангутского боя. На ее первом плане Петр Великий с руками длинными, как у орангутана, указывает пальцем на пузатый шведский корабль. Вокруг него ощетинились штыками долговязые солдаты в треуголках. Вторая литография прославляет штурм Измаила. Вся ее верхняя часть была затянута клубами порохового дыма, вырывающегося из пушечных жерл. Ниже были видны высоченные стены, на которые по лестницам карабкались суворовские солдаты, похожие на муравьев. Третья была настолько выцветшей, что разобрать на ней можно было лишь линялую кашу из лошадей, усатых голов с раскрытыми ртами и кургузых мундирчиков.
Нынешний командир полка – полковник Логинов нынче пребывал в крайне неровном настроении. Врожденное самообладание, а еще более желание показать свое хладнокровие, впрочем, удерживало его от гневных выкриков. Постукивая толстым зеленым карандашом по столешнице тумбообразного стола, напоминающего жертвенный камень из темных времен, он хмуро осматривал офицера, вольно расположившегося перед ним на стуле и даже слегка раскачивавшегося. В ритм его покачиваниям тихонько простонала разболтанная половица.
Надеявшийся оглушить вызванного офицера внушительным молчанием, а уж потом прочитать длиннейшую поучительную нотацию, Логинов слегка растерялся. Сидевший перед ним, недавно прибывший в полк, хорунжий Роман Федорович Унгерн смущенным не выглядел. Напротив, его поведение говорило о том, что и здесь в главном святилище полка, куда проштрафившиеся офицеры всегда входили с робостью и внутренним трепетом, он чувствовал себя покойно и непринужденно. Внимательно рассмотрев карты и мазнув взглядом по литографиям, Унгерн разглядывал обстановку комнату, не пропуская ни одну деталь. От скуки, чувства обострились, и он ясно видел, как паучок опутывал паутиной переплеты книг, очень красиво выставленные в ореховом шкафу. Одновременно, Унгерн прислушивался к едва слышному разговору полкового адъютанта с интендантом, лениво втекающему под дверь и немного развлекающему его.
Интендант пискляво жаловался, что командир полка не разрешает списывать подгнившие сухари и заставляет учитывать их при каждой ревизии. Унгерн внутренне посмеялся. Он хорошо себе представил, какое количество сухарей мигом бы сгнило, разреши командир их списывать. Время остановилось. Пристальный взгляд командира, впрочем, не смущал Унгерна. У каждого свои странности, что тут скажешь. Этот молчать любит, и на здоровье. С немалым трудом подавил зевок, челюсти свело.
Наконец полковник, видя, как теория грозного молчания терпит в некотором смысле банкротство, первым нарушил тишину. Унгерн от неожиданности вздрогнул, сварливый голос командира штопором ввинтился в уши. Таким голосом хорошо счищать ржавчину с корабельных котлов.
– Господин хорунжий! Мне неоднократно докладывали, что вы ведете образ жизни несовместный с понятием офицера и дворянина. Недостаточно следите за своим внешним видом, а также появились в расположении полка пьяным, как сапожник! А эти постоянные гимназистские выходки, нарушения дисциплины! – Логинов, разгоняя себя, мячиком вспрыгнул со стула, швырнул карандаш на стол и прошелся до двери и обратно, нервно меряя пол короткими ногами. Унгерн поворотом головы почтительно проследил за его перемещениями. Полковник перебирал в голове варианты дальнейшего разговора. Ходьба заметно успокаивала его.
Плюхнувшись обратно за стол, и окончательно совладав с нервами, полковник спросил почти ласково:
– Голубчик Роман Федорович, а может быть вы, что-либо хотите выразить своими поступками, высказать? Так скажите мне сейчас, я ваш командир, постараюсь понять.
Унгерн имел вид такой, словно более всего на свете его сейчас интересует носок собственного сапога, не слишком хорошо чищенного. к слову говоря. Помедлив минуту, он поднял светлые, почти прозрачные глаза на командира, юношеские, жидкие усики слабо дрогнули.
– Я, господин полковник, хочу выразить своими поступками, что мне иногда бывает смертельно скучно прозябать в нашем полку. Служба настолько постная, что и не хочешь, а согрешишь.
Полковник оторопел. Мигнув раза три-четыре, он протянул, вытягивая слова, словно они были из каучука.
– Так вам скучно-о-о? А я-то думал, Господи-и-и… А вы ступайте служить в жандармы, там я слышал весело. Обыски, аресты, облавы на социалистов, бомбистов и прочую такую шваль. Погони, розыски, поиск улик, не служба, а мечта Пинкертона! Одним словом, скучать не приходится. И…собственно, что значит скучно? Не может же, в конце концов, у нас постоянно идти война.
Барон весело наморщил лоб.
– Среди Унгернов не припоминаю шпиков, и для меня было бы крайне нежелательно стать первым таковым. Не испытываю желания, попав на тот свет, получить семьдесят две оплеухи…
Полковник произвел движение бровями, такое, как если бы две толстые, мохнатые гусеницы изящно прогнули спинки. Барон, улыбаясь, пояснил:
– Ровно столько моих предков было убито на войне.
Полковник издал неопределенно-задумчивый звук, не поддающийся расшифровке, нечто вроде: «хмрхмр». Разговоры о древности рода были ему до крайности неблизки, ибо его собственное дворянство насчитывало лишь два поколения. Он раздраженно листнул служебный формуляр Унгерна. Взгляд споткнулся на казенноватой, но неизбежной фразе: «За примерную службу на театре военных действий и участие в походе против Японии награжден светло-бронзовой медалью…»
– В Японском походе вы отменно проявили себя, отмечены наградой, – вяло пробубнил Логинов, желая настроить разговор на более мирный лад, впрочем, не имея для того нужного воодушевления.
Унгерн слегка засветился изнутри, черты лица смягчились от приятных воспоминаний.
– Мммм, – в тон отвечал он своему командиру, с некоторой теплотой глядя на него.
В следующий миг, лицо Романа Федоровича потухло, будто погасили внутреннюю лампочку. Затем он и вовсе покривился, словно от зубной боли. Потом проговорил, раздельно проговаривая слова.
– Нарочно ведь оставил Морской корпус, пошел рядовым, чтобы сражаться, вытерпел цуканье фельдфебеля из мужиков. Дворянин тысячелетнего рода, а стерпел. Да и матушке, если по чести, сердце разбил; она меня морским офицером желала видеть, а не нижним чином. Так биться с врагом хотел, что все прочее стало маловажным.
Унгерн смотрел на полковника серьезно и грустно, не скоморошничал больше и не храбрился. Потом улыбнулся невесело.
– Хотя, в бою быть и не посчастливилось, однако без сделанных поступков, я бы не оказался в нашем славном Первом Аргунском. Хотя временами здесь бывает тоска зеленая!
– Тоска зеленая, смею вас заверить милостивый государь, не здесь, а где-нибудь в Симбирском или Пензенском полку, – с некоторым ядом отвечал полковник. – Там наиболее интересным событием считается приезд провинциального театра, с поистасканной постановкой, от которой бывает тошно даже занятым в ней актерам. Хотя актерки временами бывают очень даже…, – отвлекся, было, полковник и даже мечтательно пошевелил пальцами, но спохватился и снова построжал.
– А если начистоту, то не буду возражать, если вы подадите рапорт о переводе в другой полк, в котором служить молодым офицерам весело. Не смею больше задерживать, хорунжий Унгерн-Штернберг!
Унгерн облегченно вскочил со стула, щелкнул каблуками, и нарочито печатая шаг, вышел. Полковник поморщился: «Паяц». Снова швырнул карандаш на стол и тоскливо посмотрел на несгораемый шкаф, в стальной утробе которого кроме всего остального нужного, янтарно светились две бутылки с коньяком, одна ополовиненная, а вторая и вовсе еще непочатая.
В помещении канцелярии, где трудились чины, не обремененные избыточным золотым шитьем на мундирах, среди нагромождения письменных столов, толстых шкафов и стопок картонных папок, иные из которых достигали половины человеческого роста, славно скучали старшие писари Кувшинов и Мельник. Полковой адъютант с интендантом ушли в офицерское собрание, и они остались здесь главным начальством. Младшие же писари старательно шуршали бумажками, скрипели перьями, вместо слов старались обходиться уважительным шипением и прикашливанием.
Мельник и Кувшинов, удобно расположившись на стульях, поставленных рядом, последние десять минут напряженно прислушивались к разговору в соседней комнате, стараясь по отдельным доносящимся фразам понять, что там происходит. Даже корчились от любопытства. Более остроухий Кувшинов распознал, что «барону фитиля дают», о чем сбиваясь на щенячье повизгивание сообщил Мельнику. Густо поулыбались друг другу. Унгерна они крепко не любили.
Когда барон вышел от командира, Мельник сделал вид, что увлечен поиском чрезвычайно важного документа в бумажной папке настолько пожелтевшей, что верно, содержала в себе сведения еще времен Наполеоновских войн. Кувшинов глаз не отвел, но взгляд его был настолько нахальным, что кровь бросилась Унгерну в лицо. Писари и не думали вставать.
Унгерн мгновенно вскипел, но сдержался и лишь произнес зловеще: «Так-так, господа». Вышел, крепко саданув крякнувшей недовольно дверью.
Кувшинов, весь сияя от осознания радости маленькой победы, одержанной над неугодным начальству офицером, обернулся к Мельнику:
– Видал, мучная душа? Фон барон умылся и пошел. Не потягался с приказным Кувшиновым.
Мельник, несколько смущенный проявленной своей трусостью перед лицом врага, отвечал с некоторой горячностью.
– Сам ты мучная, я ту муку только в калачах и видал. А барона ты ловко, знай наших. На нас писарях, можно сказать, весь полк держится. Приказ отбить – давай Мельника, наряд на патроны – опять ко мне! Нам перед каждым хорунжишкой трепаться не след.
– А барон-то, из немцев будет?
– Известное дело.
Помолчали. Потом Кувшинов просветлел.
– А я слыхал, что немцы с бабами не по-нашему живут.
– Это как так? – Мельник обратился в долговязый знак вопроса, белесые глазки подернулись влажным.
– А вот как, – Кувшинов наклонившись к, заросшему проволочным волосом, твердому уху Мельника, зашептал, опасливо косясь на дверь. Оторвавшись, упал на свое место, от довольства сияя каждой конопушкой. Мельник, низко склонившись над столом, закис от смеха, мелко тряся костлявыми плечами. Кувшинов довольно наблюдал за ним.
Старшие писари Мельник и Кувшинов были заметными личностями в полку. Как случилось, что при своих скромных чинах они, однако же, взяли немалую силу никто не знал. Однако, частенько от их настроения зависели очень многие вопросы, как-то: скорость прохождения рапорта, представления к награде или визирования отпускного удостоверения. Поэтому связываться с ними не желали даже офицеры. Оба они проживали в городе Верхнеудинске, оба до службы промышляли торговлей. Кувшинов скупал скот по деревням и держал мясную лавку. Мельник имел шорный лабаз на два раствора в торговых рядах. Но так как состояли они в казачьем сословии, действительную службу несли в 1-м Аргунском полку.
Отдельного описания заслуживает внешность этих персонажей. Кувшинов был славно упитанным, пухлым малым, с рыхлым телом усыпанным веснушками с головы до пят. Венчик бесцветных курчавившихся волос переходил сразу в щеки, розовые и тугие, не потерявшие своей упитанности и во время службы. Ручки и ножки его казались необыкновенно маленькими, почти детскими, по сравнению с массивным телом. Глаза светло-зеленые и чрезвычайно живые смотрели умно, но несколько плутовато, выдавая в своем хозяине тот тип торговца, что всякий час готов объегорить доверчивую крестьянскую душу. Несмотря на всю свою нескладность, казачью форму Кувшинов носил щеголевато и не без лихости, до блеска надраивая голенища сапог, сбивая на левое ухо фуражку, не расставаясь с шашкой даже в канцелярии. Более всего он желал явиться со службы непременно с медалью и с лычками урядника, а посему служил со всей ревностью, угадывая любое желание начальства и бросаясь со всех ног выполнять самое плевое поручение. В письмах домой он сообщил о присвоении звания приказного, смолчав о том, что выслужил он его на бумажных работах. Добившись успехов на военной службе, он надеялся на успех и в сердечных делах. А именно – высватать-таки дочку третьегильдейного купца Толстоухова – прекрасную в соображении дородности и подернутых сладкой паволокой глаз Аглаю Никодимовну. Купец Толстоухов хотя и не прочь был породниться с оборотистым и нахрапистым Кувшиновым, но мнение единственной дочери не зажимал.
Аглая же, пышная, рослая и белотелая, была избалованной и страшно капризной юной особой. Выпустившись из Читинской женской гимназии, она в изобилии набралась новомодных идей и течений. А замуж желала идти непременно за жениха благородного происхождения: офицера или на крайний конец партикулярного дворянина. Ухаживания Кувшинова она принимала хотя и благосклонно, но как-то не всерьез. Стоило тому заикнуться о свадьбе, как она залилась таким звонким смехом, словно горсть серебряных колокольчиков всыпали в хрустальную вазу.
На действительную службу Кувшинов пошел охотно, хотя к казачьему сословию принадлежал уже формально, проживая мещанином в Верхнеудинске. Надеялся, что служба в казачьем полку придаст ему ту мужественность, которой не хватало его расплывшемуся облику. Служба меж тем началась не гладко, Кувшинов сразу очутился в числе худших. На коне, идущем иноходью, он еще кое-как держался, раскачиваясь и вздрагивая всем телом, однако стоило перейти на легкую рысь, как сразу падал на лошадиную шею, вцепляясь пальцами в гриву и закрывая глаза. Шашкой тоже получалось не очень ладно. Более всего, Кувшинов, рубящий шашкой напоминал крестьянина с цепом, тяжко и неуклюже бьющего сверху вниз по снопу пшеницы. Однако, выручила грамотность, привитая сызмальства отцом и закрепленная в церковно-приходской школе. Кувшинов хорошо читал, неплохо знал счет и обладал таким четким и красивым почерком, что начальник канцелярии полка, посмотрев на старательно выведенные строчки, только одобрительно присвистнул.
Закадыка Кувшинова приказной Мельник внешне являл собой полную противоположность. Высокий и нескладный, постоянно сутулящийся Мельник имел обыкновение беспрерывно курить, искуривал массу папирос, зачастую прикуривая одну от другой. Лицо его узкое и вытянутое вперед, в профиль до крайности напоминало лошадиный портрет. Угреватый нос уточкой, торчал словно приклеенный, посреди слегка втянутых лимонно-желтых щек. Волосы, смоляные, курчавые и жесткие, напористо перли из мельниковских ушей и ноздрей, из-за чего он принужден был периодически выстригать их канцелярскими ножницами. Черные глаза-угольки антрацитово поблескивали из-под кустистых, почти сросшихся на переносице, бровей. Более всего Мельник обожал посиживать в станционном буфете со своим другом Кувшиновым, беспрерывно заставляя полового подогревать самовар, просматривая газеты и благосклонно принимая уважительное и где-то боязливое отношение к себе казаков и даже некоторых унтеров.
Призыв на службу Мельник воспринял как Божий дар, поскольку находился в одном шаге от долговой тюрьмы. Задолжав двенадцать тысяч по векселям, он уже помышлял о том, чтобы сбежать в Маньчжурию, где в приграничных районах имелись русские деревни. Преимущественно они были старообрядческими, и это обстоятельство очень даже смущало будущего писаря. Радости жизни он обожал, в тех своих проявлениях, которые обычно и приводят к невылазным долгам. А старики-старообрядцы деревни свои держали в строгости.
Будучи доставленным в полк, Мельник, в числе восемнадцати казаков-новобранцев, первым делом очутился перед лицом помощника начальника штаба хорунжего Зубова, озабоченного заполнением вакансии писаря в штабной канцелярии. Обрадовавшись ловко знавшего грамоту Мельнику как родному, Зубов мигом определил того куда следует.
Поэтому настоящей службы Мельник не увидел, так как, очутившись под крылом у Зубова, питавшего слабость к расторопным подчиненным, вскоре стал совершенно незаменимым. Давно уже не было Зубова, проигравшего в карты подотчетные деньги и скоропалительно переведенного в другой полк, а Мельник по-прежнему царил в своем крохотным мирке ведомостей, отчетов и рапортов.
Выпустившийся во 2-й Аргунский полк из Павловского пехотного училища, унтер-офицер Унгерн поначалу хотел прибить нахальных писарчуков, отчего-то сразу невзлюбивших «фон барона», постоянно насмехавшихся над ним за его спиной и распускающих всякие небылицы. Но после коротких раздумий Унгерн благоразумно решил подождать офицерского звания, надеясь с его помощью привести распоясавшихся канцеляристов к общему знаменателю. Однако, получив долгожданные погоны, Унгерн вскоре понял, как он переоценивал возможности скромного чина хорунжего. Писари перестали глумливо насмехаться над ним, но заняли позицию холодного и наглого равнодушия, прикладывая руку к козырьку фуражки при встрече с такой снисходительностью, словно бы делали невероятное одолжение. Растерянный Унгерн вскоре понял, что у него два пути: или все же побить наглецов, или подать рапорт по начальству о неподобающем поведении нижних чинов. Не мог же он вызвать их на дуэль, в самом деле. Не желая портить себе едва начавшуюся службу рукоприкладством и не приемля для себя роль кляузника, Унгерн предпочел третий путь: до поры не замечать распоясавшихся канцеляристов, но при случае прижать их.
Сейчас он стоял на сером, шершавом крыльце, вросшем по первую ступеньку в спрессованную землю. После душного, пропахшего нещадно смазываемыми дегтем сапожищами помещения канцелярии, осенний воздух всасывался легкими мучительно и сладко. Перед Романом Федоровичем, во всем своем Богом забытом великолепии раскинулась станция Даурия с поселком, окруженная со всех сторон сопками со склонами, густо поросшими березовыми и лиственничными рощицами. Осень уже пришла сюда, принеся с собой золото листвы и тот неуловимый запах, витающий в воздухе, – что-то вроде смеси последождевой свежести и здорового древесного дымка. Дожди еще не успели накрыть Забайкалье нудной серой пеленой, и все вокруг наслаждалось теплой, солнечной и сухой осенью. Наслаждался ею и двадцатидвухлетний хорунжий Унгерн, лифляндский дворянин, который из-за своей с детства не дающей покоя тяги к путешествиям и военным приключениям, нежданно для всех сделался забайкальским казаком. Сейчас он добыл из кармана форменных шаровар коробку папирос и, чиркнув спичкой, закурил, наблюдая, как синеватый дымок стелется в хрустальном воздухе. Последнее время он вообще много курил, как ему казалось от скуки. Роман Федорович рассеянно и блаженно наблюдал за однообразной станционной жизнью. С крыльца полковой канцелярии, расположенной на небольшом возвышении, был видна главная улица поселка Даурия, которая тянулась от деревянной церкви, ветхой до прозрачности, как и ее старенький настоятель, отец Августин, до железнодорожной станции.
Улица была образована главным образом деревянными домами с потемневшими тесовыми крышами, среди которых, между прочим, иногда встречались и крытые железом, говоря о том, что в них проживают люди с некоторым достатком – железнодорожные служащие или мелкие торговцы. Во всем остальном эти дома были такими же, как у крестьян, охотников или небогатых казаков – с маленькими окошками, затянутыми мутным стеклом, деревянными завалинками, резными наличниками, низенькими дверями и белеными печными трубами. Впрочем, улицы как таковой и не было, а была дорога от церкви, вокруг которой по воскресным и праздничным дням собирался небольшой торг. Вдоль дороги, без соблюдения всякой симметрии лепилась масса строений, и жилых, и хозяйственных. Из хозяйственных построек все время неслось всевозможное блеянье, мычание, кудахтанье и всякое иное, столь любезное казачьему, да и всякому другому сердцу звучание.
Среди деревянных одноэтажных инвалидов было несколько выдающихся по местным меркам домов в два этажа. Один принадлежал купцу Горохову. На первом этаже поместился трактир и лавка, а на втором проживал сам купец с семейством. Вторым таким домом владел начальник станции Даурия Ненашев, человек гостеприимный и хлебосольный, проживавший, впрочем, кажется, несколько не по средствам. Офицеры полка были частыми гостями в этом доме, особенно оживленном во время приезда из Читы дочерей Ненашева – Лизы и Катюши. Третий дом, с первым этажом, сложенным из обожженного кирпича, до войны с Японией принадлежал загадочной японской фирме, занимавшейся, судя по надписи на жестяной вывеске, лесными концессиями. Кроме того, фирма содержала лавку с галантерейным товаром и парикмахерскую, которые размещались здесь же. Всеми делами заправляли трое японцев, одинаково вежливых, улыбчивых и крайне аккуратных в одежде. В лавке и парикмахерской частыми визитерами были офицеры, которых японцы принимали с особой охотой и никогда не брали дополнительной платы за одеколон и вежеталь. За две недели до начала войны японцы незаметно исчезли, бросив товар в лавке и все обстановку дома. Нарядили следствие. При попытке расследовать исчезновение японцев, местный жандармский начальник так и не сумел отыскать ни одного свидетеля их отъезда. С тех самых пор, дом стоял опечатанным и с заколоченными ставнями, впрочем, товар из лавки, несмотря на эти меры, был сиюминутно растащен обывателями.
Невдалеке от станции разместился военный городок с казармами, в которых размещались нижние чины 1-го Аргунского полка, обширными конюшнями, с воинскими складами, арсеналом, выездным манежем, лазаретом, шорными мастерскими, офицерским собранием и недостроенным храмом. Офицеры полка не жили при казармах и предпочитали размещаться на обывательских квартирах в поселке. Благодаря железнодорожной станции поселок был обеспечен водопроводной водой, что для такой глуши казалось сказочной роскошью. Водоразборные колонки на главной улиц, в окружении полыни, колосящейся по пояс взрослого человека и покосившихся амбарушек, грубо обмазанных глиной, смотрелись истинным венцом технической мысли.
По укатанной дороге, мимо Унгерна, не спеша пропылила пароконная интендантская повозка. Слой пыли на дороге был столь толстым, что обода колес до спиц скрывались в ней. Два бородатых казака-обозника, расслаблено сидящие на повозке, при виде офицера несколько подобрались и отдали честь, изо всех сил стараясь согнать разморено-сонное выражение с лиц.
Унгерн машинально приложил руку к простоволосой голове. Сплюнув от поднявшейся пыли, он заметил, как из бочки, стиснутой на повозке мешками и ящиками, вытекает что-то тягучее и маслянистое, пронзая пышный слой пыли темными каплями.
– Эй, служба! – гаркнул Унгерн вслед обозникам, – Масло растеряешь!
Казаки всполошились, мигом согнали сонливость, один резко натянул поводья, останавливая повозку, второй соскочил на землю и бросился к бочке, переворачивая ее разошедшимся пазом кверху. Унгерн довольно хмыкнул, вминая каблуком окурок папиросы в каменную землю.
– Раззявы, – беззлобно буркнул под нос, отвязывая от коновязи повод своей серой молодой кобылы, нетерпеливо перебирающей передними ногами. Унгерн ласково провел ладонью по бархатным ноздрям, потрепал по шее, пропуская через пальцы жесткие, как стебли пшеницы, волосы. Кобыла благодарно пряднула ушами, с нежностью покосилась на хозяина. Угерн, взявшись за луку, взлетел в легкое казацкое седло, сдавил бока кобылы коленями. Та послушно пошла рысью.
– Спасибо вашбродь! – казаки, справившись с утечкой, благодарно махали мятыми фуражками вслед.
Роман Федорович не спеша рысил по улице, держась в седле прямо и крепко. «Быдто кол проглотил», – любил бросить вслед писарь Кувшинов.
Ветер рвал светлые волосы барона – фуражку он надевать не любил, предпочитая держать ее в седельной сумке. Белоголовые мальчишки в рубашонках и заплатанных порточках помчались изо всех сил за Унгерном, крича и размахивая ивовыми прутками. Пыль из-под копыт летела им в лица, но они не обращали на это большого внимания. Унгерн сжал бока кобылы сильнее, ребятишки остались далеко позади, восторженно крича что-то неразборчивое. Унгерн улыбался ветру, бьющему в лицо, любовался сероватыми осенними облаками, стоящими неподвижно, точно пришпиленные к небу. Улица была почти безлюдной, если не считать двух парней ухарского облика, в кумачовых рубахах, раскачиваясь шедших в сторону станции. Они любовно придерживали друг друга за плечи, выписывая ногами, обутыми в хромовые сапоги гармошкой нечто замысловатое. Оба, черные как жуки, один бритый, второй с подстриженной аккуратно бородкой.
«Конокрады, рожи подходящие», – мелькнула мысль, но тут же выскочила из головы, как никчемная и ненужная. Унгерн имел способность не держать в голове шелуху, не имеющую значения для его собственного развития и мировосприятия. Мир вокруг себя он хотел воспринимать как поле постоянной битвы, в которой он непременно должен участвовать. Вечно внутри что-то крутилось, не дающее покоя, толкающее поискать приключений на то место, которым он сейчас крепко сидел в жестком, удобном седле. Пока это не очень удавалось. Война с Японией, ради которой он бросил кадетский корпус и поступил вольноопределяющимся в пехотный полк, не дала ему прямого боевого опыта. Но условия похода, бесконечное движение в вагоне-теплушке по линии КВЖД в сторону происходящих сражений, биваки под открытым ночным небом, марши по гаоляновым полям бескрайней Маньчжурии, мимо китайских деревень, обнесенных, словно крошечные крепости глиняными стенами, ожидание скорого боя, оставили в его душе воспоминания, которые теперь приятно волновали.
Унгерн потянул повод влево и выскочил в узкий, кривой проулок, заросший бузиной и крапивой, из-под копыт во все стороны брызнули белые с рыжими пятнами куры. Кобыла вмах перескочила плетень, возведенный предприимчивым хозяином, отхватившим кусок переулка под огород; над головой, как неряшливые вороны, взлетели комья жирного чернозема. Еще три-четыре скачка и всадник понесся по скошенным лугам, огибая стога сена. Сейчас он был в своей любимой стихии. Роман Унгерн разительно не был похож на своих близких родственников не своими привычками, не склонностью к кочевому образу жизни, не своим равнодушием к комфорту цивилизованной жизни. Своего он добивался любыми путями. Чистопородный лифляндский дворянин с титулом, добился выпуска из пехотного училища в казачье войско. Служить хотел только в кавалерии, а в его случае такая возможность была только одна – в казаки. Роль, сыгранная в этом предприятии двоюродным дядей генералом Ренненкампфом, атаманом Забайкальского войска, впрочем, не предавалась огласке. По особенному распоряжению дяди, к слову говоря. В судьбе племянника это было его первое и последнее участие, сделанное между поездкой на кавказские воды и получением ордена Святой Анны I степени из рук Государя Императора.
Казаки, по прибытии Унгерна в полк, поначалу отнеслись к нему равнодушно, некоторые – насмешливо. И действительно, что он мог показать им – людям, выросшим в седле, с детства владеющим шашкой так, как если бы она была частью собственной руки, без промаха низавшим любую цель из короткого кавалерийского карабина?
Конечно, занятия по кавалерийской езде были в Павловском пехотном училище, но что могли вызвать их результаты в природной казачьей среде? Лишь снисходительную усмешку казачин, заросших бородами по самые свои полубурятские глаза. Упаси Боже, никто из служак никогда не позволил бы себе нелицеприятные высказывания о юном офицере; но все же было в глазах и лицах казаков некое соболезнование недотепистости Унгерна в верховой езде.
Самолюбие Романа Федоровича было затронуто, если не до злых слез, то где-то близко. Иначе и быть не могло; несносный характер, доставшийся прямиком от далеких предков-крестоносцев, да и похоже прямых разбойников в средневековых латах, давал о себе знать. В манеж не ходил, ибо зрителей там было всегда предостаточно. Он дотемна скакал на своей серой кобыле по окрестностям Даурии, выматывая ее и себя. Бросал лошадь с рыси в галоп и обратно, делал длительные верхоконные переходы, взбирался на сопки, переправлялся через ручьи и мелкие речушки. Брал препятствия, начав со стволов поваленных деревьев, научившись со временем перелетать через невысокие изгороди. Кобыла дрожала подгибающимися ногами, удрученно храпела, мотала красивой головой, роняя сгустки пены из уголков рта, когда Унгерн затемно приводил ее на конюшню. Едва держался на ногах и он сам, с серым от пыли и усталости лицом. Лениво почесывающиеся, сонные конюхи поначалу злобно бурчали, не желая в такое позднее время возиться с лошадью. Но быстро успокоились и перестали даже вылезать на звук позднего топота из своей теплой, душной, провонявшей портянками, едким людским потом и убийственной махоркой берлоги. Унгерн не возражал, предпочитая ухаживать за своей лошадью сам, несмотря на разбитость членов. Он водил ее быстрым шагом по двору, немилосердно зевая, жадно и быстро пил сам у колодца, долго поил лошадь, терпеливо следя за тем, как она бесконечно тянет бархатистыми губами воду из огромного каменного корыта, вросшего в утоптанную землю, шумно отдуваясь и вновь припадая к поверхности воды. После того, как она, фыркая и вздрагивая раздувшимися боками, отрывалась от воды, отводил в денник. Насухо вытирал ей круп клочками мягкого сена и, насыпав полную кормушку свежего овса, накрывал попоной. Назавтра лошадь и всадника снова ждал обычный тяжелый день.


