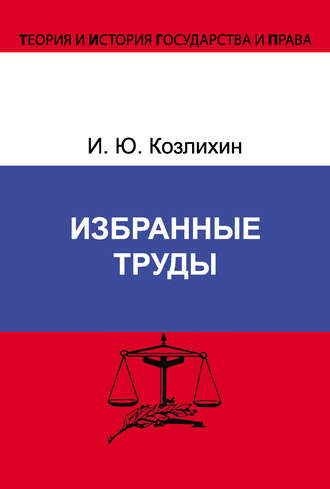
И. Ю. Козлихин
Избранные труды
В Европе опасность тирании традиционно связывалась с исполнительной властью, американцы тоже, по крайней мере, первоначально, разделяли эти опасения. Принцип разделения властей «стал лозунгом, который означал, что власть должна быть отделена от исполнительного органа и передана законодательному».[29] И в ходе революции легислатуры многих штатов, претендуя на выражение воли всего народа (в некотором роде американский вариант руссоизма), присвоили себе полномочия, далеко выходящие за рамки конституции. Убеждение в необходимости ограничить всевластие легислатур разделялось многими деятелями революции. Одним из первых эту идею высказал Т. Джефферсон. Анализируя положение дел в своем родном штате Вирджиния, он писал, что все полномочия государства законодательные, исполнительные и судебные сосредоточены в легислатуре. А сосредоточение всей власти в руках нескольких лиц есть тираническое правление.[30]
Эта мысль получила свое развитие и на Филадельфийском конституционном конвенте и затем на страницах «Записок федералиста». Так, один из делегатов конвента утверждал: «…предубеждение против исполнительной власти проистекает из ошибочного предположения, что парламент палладиум свободы. Действительно, если исполнительная власть всеохватывающая, то слова «король и тиран», а не «легислатура» и «тирания», естественным образом совпадают в умах людей. Но если исполнительная власть незначительна, то слова «тирания» и «легислатура» легко сопоставляются».[31] Именно такая ситуация, по мнению большинства делегатов, и сложилась в штатах. При создании единого государства было необходимо создать такую систему, которая гарантировала бы от «эксцессов демократии», превращающих государство в аморфный, неэффективный механизм. Делегаты конвента и авторы «Федералиста» не были антидемократами в современном смысле слова, они выступали против неограниченной, неправовой демократии и предпочитали использовать термин «республика», понимая ее как «ограниченное государство». По утверждению Мэдисона, сочетание энергии и стабильности государства с принципами республиканской формы правления явилось одной из самых сложных проблем, вставших перед делегатами конвента.[32]
Гарантией против «тиранических поползновений» легислатуры могла стать только сильная исполнительная власть, имеющая своим источником весь народ и, таким образом, равную легитимность с законодательной властью. Гамильтон, убеждая сограждан в необходимости создания сильной исполнительной власти, писал, что хорошая исполнительная власть должна обладать тремя главными свойствами: силой, ответственностью и независимостью. Он утверждал, что, несмотря на широко распространенное мнение о несовместимости сильной исполнительной власти с республиканским правлением, именно сильная исполнительная власть является главной характеристикой в определении хорошего государства.[33] Сильная исполнительная власть должна сохранять единство, под которым Гамильтон понимал, прежде всего, сосредоточение власти в руках одного человека. Решительность, секретность, быстрота – это качества деятельности одного, а не нескольких лиц. Возлагать исполнительную власть на несколько человек – значит, нарушать ее единство и лишать перечисленных свойств. Нельзя уподоблять исполнительную власть законодательной, характерной чертой которой является столкновение мнений и борьба группировок; то, что для законодательной власти может быть полезным, поскольку борьба уравновешивает противоположные мнения, ослабляет исполнительную власть. Сила и быстрота – главные ее свойства, и сбалансированность мнений пользы здесь не принесет.[34] Отсюда закономерно вытекали и рассуждения об ответственности исполнительной власти. Каждый магистрат при осуществлении служебных обязанностей должен нести персональную ответственность за свои действия. Из единства исполнительной власти следует вывод о персональной ответственности чиновников перед президентом и ответственности последнего за свои и их действия перед народом, избравшим его.[35] Это позволяет обеспечить независимость исполнительной власти от законодательной. Исполнительная власть в осуществлении своих конституционных функций полностью независима и подчиняется только закону. «Одно дело быть подчиненным закону и совершенно иное – быть подчиненным законодательному органу».[36]
Следующий важный принцип, реализованный в американской конституции, – принцип федерализма. В Америке, так же как и в Европе, утверждение, что республика возможна лишь в небольшом государстве, считалось аксиоматичным. Но американцы не собирались, да и практически не могли создать унитарную монархию. На конституционном конвенте различалось федеральное (союзное) и национальное (унитарное) государство. Первым это различие провел Г. Моррис: федеральное государство возникает в результате простого договора, покоящегося на согласии сторон, национальное же более совершенно – оно обладает принудительной силой.[37] В данном случае, строго говоря, речь шла не о федерации, а о конфедерации, даже более того – о конкретном ее типе, созданном «Статьями конфедерации» 1781 г., а унитарное государство рассматривалось как государство, имеющее эффективные центральные органы. При создании такого государства целесообразнее было опираться на население страны в целом, а не на отдельные штаты. Уже на одном из первых заседаний конвента Дж. Вильсон сформулировал кредо сторонников «национального» государства: необходимо создать органы власти, независимые как друг от друга, так и от штатов, поэтому и обе палаты легислатуры, и исполнительная власть должны формироваться на основе общенациональных выборов.[38] Конечно, в полной мере реализовать это было невозможно: приходилось учитывать наличие реально существующих 13 суверенных государств (штатов). Конституция 1787 г., признавая верховенство федерации, сохранила значительные права за штатами, избрав принцип «перечисленных полномочий» федеральных органов, а федеральный конгресс стал, по существу, органом представительства и штатов (сенат), и населения (палата представителей). В связи с этим существенно возрастала роль президентской власти как общенационального института, способного служить противовесом по отношению к конгрессу как к федеральному законодательному органу и как органу представительства штатов. Кроме того, президент, избираемый путем общенациональных выборов, получал возможность выступать от имени нации в целом, что было чрезвычайно важно с точки зрения поддержания национального единства, поскольку большинство американцев еще не осознавали себя гражданами единого государства.
Американский опыт интересен тем, что впервые в истории человечества было целенаправленно, «искусственно» создано конституционное, ограниченное государство (конституция означает реализацию принципа ограниченного государства, писал Гамильтон[39]). Ценилось не отвлеченное философствование по поводу права и свободы, а практицизм высказываемых идей, их реа лизуемость. Не объяснение того, что есть свобода, а создание эффективного механизма ее обеспечения – в этом ценность американского опыта. Поэтому американцы быстро утратили интерес к естественно-правовым теориям. Правильно указывал Ч. Бирд, что Декларация независимости хорошо послужила революции, но не стала базой для реконструкции политической системы Америки после освобождения от британского владычества.[40] Не могли принять американцы и радикально-демагогические идеи Руссо о правлении «неошибающейся» общей воли: «неошибающаяся» общая воля не может подлежать ограничению, а значит, невозможно говорить и об ограниченном государстве.
Создатели американского государства исходили из разнообразия существующих в обществе интересов (до той степени, до какой это вообще было, возможно, в конце XVIII в.). Дж. Мэдисон предложил на страницах «Федералиста» так называемую теорию фракций, суть которой состоит в следующем. Под фракциями понимались группы граждан, «составляющих большинство или меньшинство общества, объединенных и побуждаемых к действию общими порывами чувств или интересов, которые враждебны другим гражданам или постоянным и совокупным интересам общества».[41] Если фракция составляет меньшинство общества, то большинство легко может нанести ей поражение, используя обычный республиканский принцип регулярного голосования.[42] Но «когда фракция составляет большинство, то форма народного правления… позволяет ему принести в жертву своим желаниям и интересам общественное благосостояние и права других граждан. Поэтому, – утверждает Мэдисон, – великая цель, на достижение которой направлены наши усилия, – обеспечить общественное благо от посягательства этой фракции и в то же время сохранить дух и форму народного правления».[43] Для достижения этой цели, по мнению Мэдисона, существует два пути: либо предотвращение появления одинаковых порывов и интересов у большинства в одно и то же время, либо, если у большинства такие порывы все же возникли, надо, используя распыленность и численность большинства, не допустить его объединения и проведения в жизнь его угнетательского плана. Полагаться же в этом случае на какие-либо моральные или религиозные мотивы недопустимо.[44] Кстати говоря, именно поэтому отцы-основатели с подозрением относились к политическим партиям.
Система разделения властей и сдержек и противовесов приобрела в США особое значение: не просто как конституционный принцип, имеющий отношение к организации высших органов власти, а как принцип, пронизывающий всю политическую систему. В конце XIX в. известный американский государствовед Г. Кулей писал: «…разделение властей и система сдержек и противовесов составляют суть свободного государства».[45] Понимал он ее достаточно широко: правительства штатов выступают в качестве сдерживающей силы по отношению к федеральному правительству; палата представителей по отношению к сенату, и наоборот; исполнительная власть по отношению к законодательной; судебная по отношению к законодательной и исполнительной на уровне федерации и по отношению к правительствам штатов; сенат по отношению к президенту при назначении должностных лиц и ратификации международных договоров; народ во время выборов по отношению к своим представителям в конгрессе и президенту; легислатуры штатов по отношению к сенату при назначении сенатов; избиратели членов палаты представителей по отношению к выборщикам президента.[46] Кулей предлагает самое широкое понимание системы сдержек и противовесов, охватывающее не только принципы организации и деятельности высших органов власти, но и федерализм и избирательную систему, т. е. разделение властей по горизонтали между высшими органами власти, по вертикали между штатами и федерацией и в социально-политическом плане между управляющими и управляемыми, между большинством и меньшинством.
Ограниченное (конституционное) государство есть, таким образом, социально-политический и юридический феномен, смысл которого состоит в обеспечении свободы, понимаемой как свобода от вмешательства в частную жизнь, как свобода меньшинства от большинства. Гарантом такого положения должна являться писаная конституция, фиксирующая компетенцию государственных органов и стоящая над ними, поскольку принята она специально созданным для этой цели органом и требует особого порядка изменения, а также конституционное закрепление разделения властей и системы сдержек и противовесов. Итак, в США, можно сказать, было реализовано понимание конституционного государства как государства максимально ограниченного, т. е. в духе английской традиции».
Подробный анализ «французской», а точнее франко-немецкой, традиции не входит в нашу задачу, однако следует остановиться на основных моментах особенно немецкой теории правового государства как наиболее известной и влиятельной, по крайней мере, до окончания второй мировой войны. Германия, находящаяся в центре Европы, не могла остаться в стороне от общеевропейской «либерализации». Но господство «княжеского абсолютизма» и слабость гражданского общества в сравнении, например, с соседней Францией не могли не сказаться на характере немецких политико-правовых теорий. Во Франции набравшее силу третье сословие стремилось выразить свою волю в виде всеобщего закона. Это нашло теоретическое выражение в работах Руссо, писавшего о правлении общей воли, что, в конечном счете, практически реализовывалось в кровавой якобинской диктатуре, показавшей, что нет тирана страшнее, чем возомнившего себя выразителем всеобщей народной воли.
В немецких теориях момент всеобщей воли был выражен слабее. Германские государства, Пруссия в особенности, несли бремя бюрократического абсолютизма. Доминирующим было стремление не к свержению, а к усовершенствованию этой системы. В связи с этим принципы конституционного государства приобретали чисто немецкую специфику. Право, при отсутствии или слабости социально-политических сил, способных эффективно противостоять абсолютизму, рассматривалось как феномен, способный упорядочить и легализовать деятельность бюрократического аппарата. На этой основе возникают немецкие теории правового государства, да и сам термин «Rechtstaat» был введен немецкими юристами. Нельзя считать случайным, что немцы не воспользовались английским термином «правление права»; «правовое государство» более точно отражало суть их взглядов. И вот почему. Немецкую теорию правового государства философски обосновали И. Кант и затем Г. Гегель. Строго говоря, у Канта речь идет не о правовом государстве, а о правовом обществе, ведь государство он понимал в античном духе, цицероновском: «Государство – это объединение множества людей, подчиненных правовым законам».[47] Право теснейшим образом связано у него с моралью. И правовые, и моральные нормы имеют один источник – категорический императив. «Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом».[48] Гуманистическая направленность философии Канта ярко выражена и в другой формулировке категорического императива: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству».[49] Гениальная формулировка – человек есть ценность сам по себе. Позитивные законы существуют как условие реализации категорического императива, регулируя внешнее поведение, оставляя при этом в стороне внутренние побуждения людей и требуя формального соответствия их поступков требованиям категорического императива, регулируя внешнее поведение, оставляя при этом в стороне внутренние побуждения людей и требуя формального соответствия их поступков требованиям категорического императива. Законы требуют от людей сообразовывать проявление свободной воли со свободой других людей. Таким образом, взаимоотношения индивидов приобретают правовой, упорядоченный характер. Так, правовое и нравственное общество совпадают. Общество становится правовым, воспринимая хотя бы внешнюю сторону нравственного поведения. В то же время у Канта есть один важный момент, который логично присутствует в его философии и ослабляет ее действенность в сфере практической. Если англичане, американцы и даже отчасти французы искали и защищали свободу как нечто вполне осязаемое, практическое и связанное с внешними условиями жизни, то Кант «спрятал» ее в ноумен, в непознаваемую вещь в себе.
Гегель тоже мыслит «по-немецки». Государство у него поглощает индивида, семью и гражданское общество, которые являются лишь предпосылками государства, а оно есть «действительность нравственной идеи нравственный дух…», а «самосознание единичного человека посредством умонастроения имеет в нем как в своей сущности, цели и продукте своей деятельности свою субстанциональную свободу».[50] Кажется, что Гегель ищет свободу там же, где и «французы», т. е. там, где ее никогда не было. Государство для него – «это шествие Бога в мире».[51]
При этом все же следует учитывать, что этатизм Гегеля принципиально отличен от этатизма Гоббса. Этатизм Гегеля – правовой.[52] Вся его философия может рассматриваться как гимн свободе: для него история человечества есть последовательное развитие свободы через преодоление произвола. Вот как он описывает переход от феодализма (феодальной раздробленности) к монархии: «Принципом феодальной системы является внешняя сила отдельных лиц, князей, династов, не содержащая правового принципа в самой себе… в монархии подавляется произвол отдельных лиц и устанавливается общая организация власти. При подавлении этого разъединения и при сопротивлении представляется двусмысленным, проявляется ли при этом намерение осуществить право или только произвол, но ведь благодаря произвольной центральной власти одного лица создается общая организация; по сравнению с таким состоянием, при котором в каждом отдельном пункте господствует насилие и произвол, теперь оказывается гораздо меньше пунктов, страдающих от произвольного насилия».[53] Но в ходе дальнейшего развития государственная власть перестает быть произвольной.[54] Произволу вообще нет места в философии Гегеля. А отсутствие произвола – это и есть свобода. «В монархиях есть один господин и нет холопов, потому что холопство сокрушено ею и в ней господствует право и закон; из нее вытекает реальная свобода».[55] Носителем же идеи порядка у Гегеля является государство, поэтому ему ничего не остается делать, кроме как отождествлять свободу, право и государство, а в качестве реального идеала предложить Германию, где «принципы свободы, собственности и личности стали основными принципами… Государством управляет мир чиновников, а над всем стоит личное решение монарха».[56] Гегель не хотел и, вероятно, не мог признать за индивидом право на автономию. Но не следует обвинять Гегеля в «злонамеренности», как это делают, например, К. Поппер и некоторые другие либералы.[57] Правильнее согласиться с В. С. Нерсесянцем: «В гегелевском этатизме правомерно видеть не идеологическую подготовку тоталитаризма, а авторитетное философское предупреждение о его опасностях».[58]
Кант и Гегель с точки зрения политико-правовой продолжают оперировать категориями античности. Государство мыслится ими как античный полис и право сливается с государством.
Такой же стиль мышления свойствен и немецким юристам. Так, автор термина «правовое государство» (Rechsstaat) В. Т. Велькер понимал государство в цицероновско-кантовском смысле, противопоставляя правовое государство теократическому и деспотическому.[59] Впоследствии немецкие юристы в целом разделяли этот подход. Л. фон Штейн совершенно логично утверждал, что не может существовать государство без права, поэтому в определенном смысле каждое государство является правовым.[60] Надо отметить, что и при таком подходе концепция правового государства несет в себе либеральный заряд. Например, по Р. Гнейсту, правовое государство должно было отвечать следующим принципам или требованиям: каждый должен точно знать свои обязанности; ни один гражданин не должен нести большее бремя, чем другие; личные права и собственность должны быть защищены законом; отношения между гражданами должны подлежать контролю со стороны административных судов.[61] Особенностью немецкой теории являлось то, что собственно государство, вся политическая система выводилась за границы исследования. Смысл теории правового государства упорядочить, но не изменить административно-бюрократическую систему управления. Дело в том, что недостаточно развитое и самостоятельное гражданское общество не могло существовать без административных подпорок. Проблема состояла не в том, чтобы уничтожить ее, а в том, чтобы рационализировать, упорядочить с помощью права, сделать ее деятельность предсказуемой. Немцы были правы во многом: демократический контроль за деятельностью бюрократии затруднен, если возможен вообще. Поэтому-то конкретная форма государства не имела значения. Право анализировалось не в системе отношений гражданин – государство, а в системе отношений частное лицо – бюрократ. Правовое государство, по сути, означало «государство упорядоченной законами бюрократии», контролируемой судом.
Несмотря на обилие работ, посвященных правовому государству, появившихся в Германии на протяжении XIX в., она все же продолжала оставаться полицейским государством. Таким образом, юридизированное понимание государства, заключающее теоретическое требование всеобщего соблюдения позитивного закона и стремление представить правовую систему единственной гарантией свободы, порядка и безопасности, может уживаться с практикой полицейского государства.





