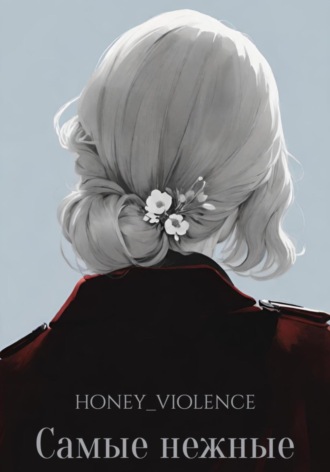
honey_violence
Самые нежные
Это нас не убьет
Это нас не убьет, да, но сделает ли сильней?
Мы сидим в этой тягостной неправильной тишине,
не умея ее разрубить, оборвать, умять.
Ангел наш неудачливый пыжится у руля,
чтоб корабль увести подальше от пасти скал,
но оскаль-
он оскальзы-
оскальзывает…
оскал обнажается страшный на лицах седых камней.
Тишина, что когда-то делала нас родней,
обрывается чем-то похожим на тихий вскрик
в миг, когда наш корабль расходится на куски.
Запрещать себе
Запрещать себе длить это, забываться,
оставаться, держаться, не отпускать.
Я живу, но как будто наполовину,
выедает до кости меня тоска.
Так, пожалуй, у многих, но все же тошно,
от сравнений нет толку, одна лишь боль.
Мне не верится в это, но слушай правду:
я несчастлива здесь и сейчас с тобой.
Отметать все, как мусор, швырять в корзину,
выгребать, как золу, солнце дней былых,
думать, видя счастливые других лица,
почему я не стала одной из них.
Этой слабости глупой всего мгновенье,
но она, словно ржавчина в мой металл.
Почему я смогла стать тебе той самой?
Почему же тем самым ты мне не стал?
Понимать осторожно все это, трогать,
как вскипевшего чайника жаркий бок —
жалит пальцы. Так больно! Простить сумеешь
до последней из букв подлость этих строк?
Впрочем, ты не заметишь ее, так лучше.
Пусть чудовище спит себе в недрах гор.
Будем дальше жить в сказочке с хэппи-эндом,
как мы, в общем-то, делали до сих пор.
Не читай меня
Не читай меня, эти строки
не тебе и не о тебе.
Когда я был твоим Адамом,
ты болела в моем ребре,
ты кровила из-под повязки,
ты просилась вовне, сюда,
только я, испугавшись боли,
расстрелял тебя без суда,
беззащитную и нагую,
с моим именем в плену уст.
Не читай меня. Эти строки —
переломанных ребер хруст.
Хочется
Хочется паспорт закинуть в сумку,
взять one way ticket (не на луну)
и ускользнуть, убежать, уехать,
только я знаю, что не смогу.
Ну убежала бы, а что толку?
Клетка по-прежнему изнутри.
Я закрываю глаза ладонью
тебе сама, но прошу: «Смотри!»,
я зажимаю твой рот молчаньем,
а после требую дать ответ.
С этим чудовищным одичанием
без твоей ласки неласков свет,
так что, куда бы я ни исчезла,
будет ломать по тебе везде.
Я остаюсь – из двух зол, где меньше —
я остаюсь слишком рядом, здесь,
возле тебя, и, ты знаешь, это
тоже суровый такой урок.
В тесном пространстве моей квартиры
небо врезается в потолок.
Меня ломает
Меня ломает, как куколку на шарнирах,
как новогодний шарик, хрупкий до беспредела.
С тех пор как мне досталась искорка в твоем взгляде,
с тех самых пор как мне досталась жаркость твоего тела,
меня ломает. Сколько мне продержаться
отмерил бог? Но бог бы не стал так гадить.
Сначала отчужденность твоих касаний,
а после равнодушие в твоем взгляде.
Ни один календарь
Ни один календарь не отметил счастливой даты:
я спустился с креста твоей страсти, где был распятым
долгих несколько лет, бессильный, больной, негордый.
В паутине из рук твоих мухой увязшей годы
потерял, на побег не решившийся сразу, не смог позднее.
А потом наступил этот просто один из дней,
я остался один: ни карающего меча, ни
тебя где-то рядом, ни прежней любви печали.
Но свобода такая, что в страхе себя же тонет,
и боятся зажить гвозди помнящие ладони.
Счастливой дороги
Счастливой дороги, любовь, коей больше нет,
пусть ветер удачи тебя подгоняет в спину.
Мы столько сложили в один до небес костер,
чтоб греться обоим, но, плюс на плюс, вышел минус,
любым вопреки законам. И лучше так,
чем возле костра, что потух, оставаться мерзнуть,
и знать, что туда уже не докинешь дров,
а если докинешь, то им загораться поздно.
Я слишком смелая
Я слишком смелая, чтоб не видеть,
чтоб закрываться от правды грубой.
Я слишком слабая – ненавидеть
поцеловавшие меня губы,
и обнимавшие меня руки,
и прижимавшее меня тело.
До равнодушия всего шаг, и
ты изящно его так сделал.
Сидишь вся такая грустная
Сидишь вся такая грустная, онемелая и бессильная,
шепчешь тихо-тихо под нос себе: «Ну спаси меня!»,
словно он услышит, далекий твой милый рыцарь,
словно не плевать ему, и все-таки он примчится.
Словно не плевать… Сидишь в своей мрачной башне.
Медленно сегодняшний становится день вчерашним.
Сентябрь
Сентябрь предлагает голову с плеч, сердце наружу.
Наступающая зима анестетиком несет стужу,
отнимая боль уходящего лета,
наглую, бьющую наотмашь по главному, словно плеть.
Через убивающее расстояние не пытайся меня согреть.
Вены жмут
Вены жмут, милая,
вены мои – мне жгут.
Знаешь, с веревками делают что,
жмут они если? Рвут.
Ты частоколом слов своих-лезвий
тычешь меня, ко рву
тянется след мой кроваво-красный.
Что выживу я, мне врут.
Ягоды спелые – волчьи ягоды —
рту твоему мед,
мне они яд, мне они отрава, а
губы твои, как лед,
и они жгут меня без пощады.
Пощады не дашь. Не враг
я тебе, милая. Так зачем же, милая,
со мной ты жестоко так?
Почти что друг
Он кладет на раны не бинт, а соль, и,
если вдруг придется идти босой,
не закроет мягким осколки пледом.
И он самый близкий из всех при этом.
Он приносит воду в кувшине битом.
Если постучишься, всегда закрыто,
свет погашен в доме, не приходи, мол.
Но ты знаешь, если необходимо,
он на кобру кинется, как мангуст, и
станет плечом крепким в минуты грусти.
А среди врагов он почти что друг, но
в этом, черт возьми, основная трудность.
Недоверье поздно и неразумно,
страсть как выход тоже была б безумием.
Остаются взглядов немые битвы,
горечь невозможной для вас судьбы.
Невозможность близости
Невозможность близости, фальшь в словах и
ресниц, как бабочки крыльев, взмахи.
Одурманен, сдался, из сил последних
держишься, но вот он, немой ответ
губ горячих, прежде недостижимых.
Шепчешь, утыкаясь в макушку: «Живы!»,
но надолго ль? Слезы горят на коже,
только эта горечь вам не поможет,
когда все закончится столько внезапно,
но все это с вами случится завтра.
Рукава танцуют свой танец тайный,
в неге предрассветной далекой спальни
нет ни клятв, ни рангов, ни планов мести,
есть вы двое только сейчас и здесь.
Сладко пелось
Сладко пелось, лилось словами,
да про то только, что не с нами
и чему никогда не сбыться.
Это слишком иная птица,
чтоб синицей в ладонях греться,
журавлиным крылом синь резать.
Из двух зол выбирать какую,
если обе из них врагу
не подкинешь, не пожелаешь?
Галатея не оживает,
царь себя же однажды в золото
оборачивает, расколотым
остается в ладонях Гердиных
превратившееся в лед сердце,
лепесток, улетевший с ветром,
просто сгнил, не сбываясь, где-то.
Был у сказки сюжетец годный,
да узлом обвязал мне горло,
и теперь лишь молчать о прошлом.
Не до встречи, не мой хороший.
Ты не вспомнишь меня
Ты не вспомнишь меня, потому что тебе чужая.
Осознание этого острой иголкой жалит
прямо в сердце, пока ты смотришь так равнодушно.
Остаюсь и неузнанной, и ненужной.
Ты не вспомнишь меня, но почувствуешь, что знакомы,
так корабль сквозь волны мчится, землей влекомый,
где на суше, один-одинешенек, ждет смиренно,
кто веками тебя находил, оставаясь верным.
Ты не вспомнишь меня, но полюбишь меня иную.
Наша встреча – судьбы поворот, и он неминуем.
И пусть вышла случайно, но стала почти что чудом,
я тебя всегда знала и я тебя не забуду.
Страх доверия
Страх доверия, непонятная злая нужность.
Вы как будто сражаетесь голые, безоружные,
но пальцы тянутся скорей коснуться, лаская нежно, и
тогда капитуляция неизбежна.
Крик отчаяния, хотя звенит тишина тяжелая.
И ты относишься к нему, как постороннему и чужому,
но стоит взглядам колючим вашим с друг другом встретиться,
вас ближе вряд ли найдется кто-то на белом свете.
Не признаешься – для тебя нужность страшнее слабости —
и говоришь, и говоришь ему злые гадости,
поскольку знаешь: контроль отпустишь, и все развалится,
даже стена, что вы построили между вами.
Когда он поклялся
Звездочка мерцает, тревожа память,
сердце заставляя стучать быстрей.
Она вспоминает, как поддавалась,
как себя позволила на костре
сжечь безумной страсти. Как в груди волны
обращались, лаской ведомы, в штиль.
Когда он поклялся, что все отринет,
ей тогда казалось, что он шутил.
Буря, не подвластная морской деве,
из души боль вынесла, разметав:
лучше волю гневу дать, чем жить с раной,
рассуждая, кто из вас был неправ.
Она заперла его в темной башне
до скончанья самых седых времен.
Когда он поклялся, что все отринул,
ей хотелось верить, что не ее.
Годы разделили, не отдаливши,
и болит, как прежде, оно болит.
Он стоит над ней неподвижно, молча,
так людского мало в нем: монолит
льда и равнодушия в каждой фразе.
Навь испивший, в нави попавший клеть,
он исполнил клятву. Глядит царевна,
и от боли хочется умереть.
Камень
Море все тревожится, бьет волнами,
только камень мертв, и он глух к волне.
Сердце у Кощея ведь тоже камень,
может, даже каменней всех камней.
Под броней укрыто – и не достанешь,
смельчака для этого не сыскать.
И не то чтоб больно от этой мысли,
но все ж жмется где-то в груди тоска.
Ноги утопают в песке прибрежном —
может, не пускает к себе вода?
Если ты поклялся остаться нежным,
почему решился затем предать?
Море все беснуется, не прощает,
ждет нетерпеливо его ответ,
но так много сказано было раньше,
что теперь для искренности слов нет.
Он не поддается и не сдается.
Раз однажды предал, держи свой путь?
Но по щекам капли скользят и жгутся,
и что это – брызги, не обмануть
ни себя, ни волны, что видят насквозь.
Море знает, море смиряет гнев.
И понять нетрудно, что смерть в разлуке,
вовсе не в запрятанной той игле.







