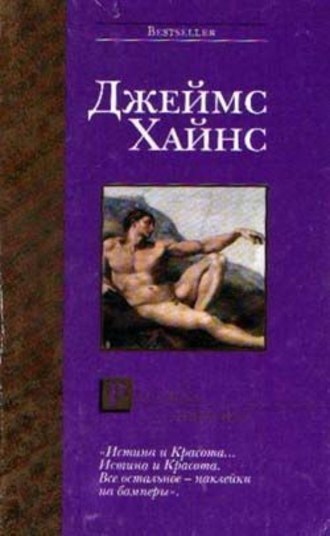
Джеймс Хайнс
Рассказ лектора
6. ПРОФЕССОР ВЕЙССМАН ОБЪЯСНЯЕТ
Однако Вита куда-то запропастилась. Нельсон стоял под дверью женского туалета на восьмом этаже, пока не стало ясно, что там ее нет. В кабинете он обнаружил следы поспешного бегства: отодвинутый стул, веер рассыпанных ручек рядом с опрокинутым стаканчиком, скомканная перчатка на полу у двери. Он позвонил Вите на автоответчик и попросил, чтобы она перезвонила.
До конца дня он старался, как мог, сосредоточиться на занятиях и в конце концов прибег к испытанному средству, как всегда, когда уставал или просто хотел отдохнуть от ежедневного цунами студенческих сочинений: разбил учеников на дискуссионные группы. Каждой группе он дал темы из сверх обыкновения терапевтического раздела методички: «Страдал ли Рип ван Винкль нарушением сна?», «Представьте, что вы психиатр, и вылечите капитана Ахава от навязчивой идеи», «Подумайте, не помог бы Родерику Эшеру прозак».
На выходные Нельсон задал всем трем группам сочинение «Можно ли антидепрессантами вылечить литературу?».
Вита так и не позвонила. Нельсон запихнул студенческие работы в портфель и натянул хрустящую парку. Он нагнулся, чтобы выключить настольную лампу, и внезапно его отражение исчезло из оконного стекла, вспыхнувшего неровным голубым светом. Вдоль площади зажглись круглые фонари, засветился вход подземного книгохранилища. В небо впечаталась башня Торнфильдской библиотеки. Нельсон отвернулся было, но тут его взгляд различил какое-то движение за декоративными башенными зубцами. Пригнувшись к столу, он наблюдал за бледной фигуркой на фоне темнеющей синевы. Она не просто двигалась; она приплясывала, выкидывая руки в стороны и подскакивая. Нельсон заморгал, в пальце запульсировала боль, по коже побежали мурашки. Фигура подпрыгнула и лягнула воздух. Нельсон отпрянул от окна – именно этот удар Кралевич сегодня нанес Кугану. Фигура не танцевала, она упражнялась в боевых искусствах.
Портфель выпал из руки и с грохотом упал на пол. Нельсон вздрогнул от резкого звука и по-детски вскрикнул. Он нагнулся поднять портфель, а когда снова выпрямился, башня была пуста. Фигура исчезла.
Всю дорогу до автобусной остановки Нельсон ежился, вспоминая фигуру на башне – ее ли он видел в тот день на площади? Призрак это или живой человек?… Однако стоило войти в автобус, как все мысли смыло волной человеческих запахов: пота, несвежего дыхания, влажной одежды. Металлический поручень над головой был теплым от чужих рук. Нельсон попытался расстегнуть молнию на парке, но в давке это было невозможно. Он закрыл глаза и решил вспомнить бескрайние просторы из вестерна, который видел пару недель назад, однако вместо этого увидел, как Вейссман издевается над Витой, словно пароходный шулер над незамужней сельской училкой. Палец снова заболел, словно по металлическому поручню пробежал ток.
Сегодняшний спор между его приятельницей и бывшим наставником был спором людей, говорящих на разных языках. Вейссман по-прежнему верил в правду и красоту. Вита верила, что ода, ваза и самые греки[74], вызванные из небытия воображением поэта, имеют одну и ту же онтологическую ценность, что все они – узлы в огромной липкой паутине символов, среди которых нет ни более важного, ни даже более «реального». Нельсон разрывался на части: он симпатизировал Вите, но нехотя соглашался с ее оппонентом. Ему претила олимпийская наглость Вейссмана, но ничего корявее Витиной статьи он не читал в жизни. От жаргона ломило зубы, как от скрипа ногтем по доске.
И все же Нельсон восхищался ее беспощадной честностью. Отсутствие изящества Вита с лихвой компенсировала иным: неприкрытой борьбой со странностью своего существования в мире, своей собственной телесной реальности – с тем, что на чудовищном современном жаргоне называла «радикальной различностью». По сравнению с этим все то, в чем преуспел Вейссман – академическое деление поэм на «большие» и «малые», на «эпохальные» и «проходные», – представлялось педантичным и малозначащим. Вита мучительно искала истину в своей собственной жизни, хотя обиделась бы до смерти, скажи ей кто, что она стремится к самопознанию, тем более к чему-то столько эссенциалистскому, редукционистскому и старомодному, как «истина». Она была не просто одер жима различными конструктивными репрезентациями гендера; ее ставило в тупик само существование тела. Даже Лилит, бывшая подружка Нельсона, могла порой разлечься на постели и смотреть фильмы с Джуди Гарленд просто для удовольствия; однако, подобно беспомощному смертному, проклятому капризным божеством, Вита была обречена на вечную борьбу с собой. И все же Нельсона восхищала отчаянная смелость Витиных попыток справиться с собственным бытием.
Нельсон поменял руку на поручне к неудовольствию соседних пассажиров. Сумеречный аспирант в тяжелом пальто сердито нахмурился. Как ни безобразно обошелся Вейссман сегодня с Витой, Нельсон поневоле жалел старого учителя. Научный Zeitgeist действительно прошел мимо него, и Вейссман это знал. Нельсон вспомнил, как его отец сказал как-то про стареющего боксера: «Он мертв, но не хочет в этом признаться». Вейссман достиг расцвета в начале семидесятых, когда собрал и прокомментировал многотомное издание англоязычной литературы, в котором разложил по полочкам все литературное наследие, от древнесаксонской поэмы «Видение креста» до «На дороге» Керуака. В ту пору он был на пике своей эротической власти – красавец мужчина с волной блестящих густых волос, воплощение литературного сердцееда. Покуда жены (которые все, в свое время, были его ученицами) растили детей и смотрели в другую сторону, Вейссман соблазнял бесконечную череду студенток. Никому не было дела: Вейссман, словно Зевс среди смертных, предавался маленьким безобидным забавам. Он отрастил модные бачки, скромно покуривал травку на факультетских собраниях и подписывал петиции против войны во Вьетнаме, довольный тем, что «Нью-Йоркское книжное обозрение» упоминает его рядом с Альфредом Кейзином. С тем же академическим бесстрастием, с каким делил поэмы Попа на большие и малые, он говорил, что одобряет политические и культурные увлечения теперешней молодежи, в частности – сексуальную свободу.
– Нам есть чему поучиться у нынешних детей, – изрек как-то Вейссман на факультетском сборище, вольготно обнимая за талию двадцатилетнюю блондинку с распущенными волосами до пояса и в свитере на голое тело. Сомневающимся он отвечал, что не просто развлекается, а оказывает девушке услугу, освобождая ее от давящей родительской морали и обременительной девственности. Кто сделает это лучше человека спокойного, опытного, годящегося ей в отцы? Потом, без сожаления и только с легким налетом tristesse[75], он хлопал ее по крепкой молодой попке и отправлял в самостоятельное плавание, превратив из девчонки в женщину.
– Собственно, – заключал Вейссман, раскинувшись на чьем-нибудь мягком кожаном диване, окутанный трубочным дымом, – я учу этих девиц стоять за себя.
И вдруг времена разом переменились. «О грамматологии» влетело в научный мир, как коктейль Молотова. Жак Потрошитель – называл Вейссман нового идола, довольный своей шуткой, однако нахлынувшая волна французской теории затопила все вокруг, а он стоял, как голый сухой утес. Многотомная антология, которая должна была оставаться последним словом литературоведения до его ухода на пенсию или до конца века (что уж наступит раньше), перекочевала в отдел уцененных книг еще в пору расцвета диско. Младшие коллеги заговорили кодом, глядя на тех, кто их не понимает, с равнодушной снисходительностью сектантов. Хуже того, они увели у Вейссмана самых лучших и талантливых аспирантов, а ему остались середнячки, которые хотели писать диссертации по шпионским романам и спортивным новеллам.
Автобус остановился перед университетской больницей, от толчка пассажиров бросило вперед. Мужчина в пальто всем телом навалился на Нельсона. Нельсон сморщился и поменял руки на поручне. Палец дергало. Вошли еще человек десять. Это была последняя остановка перед длинной тряской дорогой вокруг озера и в гору к семейным домикам. Автобус тронулся, все снова попадали друг на друга.
По праву он должен думать о Вейссмане с обидой – когда тот последний раз ездил в переполненном автобусе? – но вместо этого Нельсону представились восьмидесятые, когда на глазах у Вейссмана аспиранты и младшие коллеги сбивались в плотную стаю. Его книги и статьи по-прежнему выходили, однако уже не в таких престижных журналах и университетских издательствах. Он начал пить. Как-то, стоя в дверях конференц-зала, профессор обвел собравшихся пьяным взглядом и сказал скучающему молодому коллеге: «Знаете, я думаю, что спал со всеми женщинами в этой комнате». Коллега с отвращением отвернулся. Заявление прозвучало жалко, и не только потому, что было сексистским и малодушным; просто Вейссман сказал неправду. Молодые сотрудницы записались в пуританки, более не нуждаясь в его отеческих уроках. Раза два он чудом избежал обвинений в сексуальных домогательствах и из героя-любовника превратился в актера на характерные роли. Лицо обрюзгло, на старательно наманикюренных руках проступили пигментные пятна. Волосы по-прежнему лежали волной, но уже не черной, а желтовато-белой.
(Автобус, раскачиваясь из стороны в сторону, мчался по берегу озера. Нельсон отгонял картину чудовищной азиатской катастрофы – автобус проламывает бетонный парапет, в переполненный салон хлещет вода, его раздувшееся тело, лицом вниз, всплывает в озере. Мужчина сзади засопел и сильнее придавил Нельсона.)
Однако через несколько лет отчаяния Вейссман воспрял. Теперь он боролся не просто за свою научную репутацию; за неимением других кандидатур он стал единственным защитником литературы и повел агрессивную контратаку за спасение классики. В ожидании своего часа Вейссман собрал административных сотрудников, не заинтересованных в Новом Порядке – куратора младших курсов, председателя комиссии по научной этике, – и сколотил из них мощную фракцию. Главную победу он одержал, встав во главе факультетского стипендиального фонда, умирающей организации, которую он возродил, собирая пожертвования с консервативных бизнесменов – сосисочных магнатов и богатых сыроваров – под лозунгом сохранения западной цивилизации. Тем временем он спрятал свою гордость в карман, смирился с тем, что самую талантливую молодежь увлекают вульгарные прелести постмодернизма, и начал охоту на аспирантов и молодых коллег из консервативных колледжей и заштатных государственных вузов, шерстя списки диссертаций в поисках возможных единомышленников. Пусть это не лучшие умы поколения, но ведь и цель – не научный прорыв, а сохранение культурной традиции от Платона до Нормана Мейлера. Им предстояло стать новыми ирландскими монахами, быть может, полуграмотными и неотесанными, зато готовыми любой ценой сохранить доставшееся им сокровище.
Нельсон был одним из них – невзрачной краснеющей девственницей, соблазненной богом в обличье быка. К тому времени Вейссман научился держаться подальше от студенток, но дар убеждения не утратил, и Нельсон согласился на трехлетнюю стажировку без каких-либо гарантий на будущее.
– Речь не о нашем с вами профессиональном выживании, – сказал Вейссман, предлагая Нельсону стажировку. Они медленно шли по площади, и Нельсон старался уважительно смотреть на нового босса, хотя и видел взгляды студентов, недоумевающих, чего это пожилой красавец кипятится на людях.
– Они хотят учить наших детей, что самолет изобрели африканцы! – кричал Вейссман, брызгая слюной. – Я вас спрашиваю, кто зулусский Толстой? Покажите мне готтентотского Шекспира, и я включу его в хрестоматию!
Бриджит с самого начала была настроена скептически; Нельсон убедил ее, что это, конечно, рулетка, но в случае успеха ему обеспечена блестящая карьера в одном из лучших учебных заведений страны. Не сказал он другого: стажировка в Мидвесте как нельзя отвечала его мечте пролить бальзам и вразумление на враждующие стороны, пока представители черной, лесбийской и гей-критики гогочут над Александром Попом, а шестидесятилетние белые мужчины чувствуют себя загнанной черной рабыней из «Любимой»[76]. Другими словами, в мире его мечты не было места для обиды, с одной стороны, и для чувства вины – с другой. Он сам понимал, что это любимая фантазия белого либерала, но можно же просто помечтать о факультете, где все относятся друг к другу по-человечески?
(За узким мостом четырехрядное шоссе сменилось двухрядным, и автобус рванул вперед, как выстреленное из пальцев дынное семечко. Пассажиры полетели друг на друга; мужчина в плаще засопел под тяжестью Нельсона и двумя руками уперся ему в спину.)
После долгих лет блуждания в пустыне, когда он перебивался работой, которую не брал никто другой, консультировал первокурсников и созывал единомышленников на сосисочные и сырные деньги (Холестероловый фонд – назвал это какой-то остроумец), Вейссман восстал из мертвых и выставил свою кандидатуру на выборы декана. Это был прямой вызов профессору Викторинис, которая много лет упорно шла к той же цели. Почти все с нехорошим удовольствием предвкушали драчку. Выборы декана грозили перелиться в референдум о состоянии науки. Последователи Викторинис видели шанс вогнать кол в сердце фаллоцентризма; Вейссман видел шанс восстановить фундамент западной культуры. Неуютно было только выкормышам Вейссмана, особенно Нельсону. На карте стояла его карьера; он понимал, что останется в Мидвесте, только если Вейссмана выберут. Малоприятно было обнаружить, что он значит для наставника не больше, чем какой-нибудь забулдыга для скупщика голосов на избирательном участке, но еще хуже было осознать, что никто не принимает его всерьез как миротворца. Друзья-постмодернисты находили предлоги, чтобы с ним не разговаривать; для них он был всего лишь платный клеврет Вейссмана.
И тут произошло непредвиденное. Технически деканов назначал ректор, высокий мужчина с кустистыми бровями, носивший пристойные вельветовые костюмы; официально факультетские выборы ни к чему его не обязывали. В решающий день Нельсон до последней минуты медлил входить в аудиторию, где должно было состояться голосование. Вейссмана и Викторинис там не было – подобно римским военачальникам, они сидели по кабинетам, ожидая, отправят их командовать легионами или сошлют на Кавказ. В последнюю минуту, раньше чем Нельсон решил, в какой половине аудитории ему сесть, вошел ректор с Антони Акулло, которого все сразу узнали.
– Я сберег вам силы, голосование отменяется. – Видимо, в представлении ректора это значило пошутить. – Уверен, что вы тепло, по-миннесотски, поприветствуете нового декана факультета английского языка.
Ярость и бессильное отчаяние. Вейссман был публично великодушен. Викторинис спрятала гнев в карман и смирилась с очередными пятью годами молчания, заточения и мастерства[77], благо ей было не привыкать. Она стала замдекана, а Вейссман – своего рода министром без портфеля. Про себя оба считали, что битва не закончена, только отложена. Нельсон радовался – ему казалось, что найдено идеальное решение и теперь все будут работать вместе. Однако счастье его длилось недолго. Вскоре он получил записку от Мортона Вейссмана, уведомлявшую, что ему не смогут предоставить место по окончании стажировки. «Мы надеялись, что список ваших публикаций позволит рассмотреть вопрос о вашем дальнейшем пребывании, но… и т. д. и т. п. Может быть, для вас что-нибудь подыщут, – продолжала записка в зловеще неопределенно личной форме, – в программе литературной композиции, пока вы не нашли постоянную работу в другом месте».
Нельсон положительно почувствовал себя англосаксом, одиноким скальдом, чей государь умер, чей горький удел теперь – валы студеные пенить, ища себе других медовых застолий[78]. Прежние напасти миновали, может, минует и эта. Однако его государь не умер; его государь дал ему коленом под зад. Бриджит, по-кельтски несентиментальная, была с самого начала права.
– Другими словами, – сказала она, резко складывая записку пополам, – «Вот ваша шляпа, куда вы заторопились?».
Автобус въехал на холм. Здесь была первая остановка после озера. Водитель затормозил. Все полетели вперед, в том числе мужчина в пальто, который всем весом навалился на Нельсона. Тот обернулся и положил руку мужчине на плечо. Палец горел.
– Простите, – сквозь зубы процедил Нельсон, – не затруднит ли вас самую малость подвинуться?
Палец разрядился. Мужчина в пальто сморгнул и отпрянул назад. Все, кто стоял за ним в длинном проходе, посыпались, как домино, пока последняя пассажирка, толстенная тетка в форме медсестры, не расплющила двух девиц на заднем сиденье. Нельсону стало смешно и страшно. Люди, падая, кричали и размахивали руками, девицы, придавленные толстой медсестрой, визжали. Водитель вскочил и бросился в проход, сметая последних оставшихся на ногах пассажиров.
– Черт! – воскликнул он, отпихивая Нельсона в сторону, и тот, хотя остановка была не его, вышел в холодный ноябрьский вечер. Он брел в лабиринте семейных домиков, через парковки, подальше обходя фонари – ему нравилась темнота. Он немного дрожал, стыдясь того удовольствия, которое испытал при виде падающих пассажиров. Я должен злиться на Вейссмана. Должен злиться на человека, который соблазнил меня и бросил. После несостоявшихся выборов остальные питомцы Вейссмана убежали с факультета; Нельсон, несмотря на советы Бриджит поступить так же, остался еще на пять лет в надежде выслужить постоянную должность. Однако Вейссман переключился на аспирантов: он решил вырастить непримиримых борцов за чистоту идеала по своему образу и подобию и рассеять их по всему миру, как иезуитов. С его точки зрения Нельсон был ошибкой, не оправдавшим надежд учеником, который перебивается на подачки, бросаемые факультетом из жалости.
Нельсон побежал, шурша паркой. Ноги гулко стучали по замерзшим газонам, хрустели на заледеневшем асфальте. Палец снова горел. Запыхавшись, он вбежал в собственный двор. Двое соседских ребятишек с визгом бросились наутек при виде оранжевого чудища. Он перепрыгнул через велосипед Абигайл и в один мах преодолел три ступеньки, выдыхая клубы пара, как рабочая лошадь. «Но я не рабочая лошадь, – думал он, берясь за дверную ручку, – на мне пашут, но я не рабочая лошадь, я чистокровный скакун, умный, быстрый и сильный».
Он распахнул дверь и воскликнул с жаром, как Уорд Кливер[79]:
– Милая, я дома!
Бриджит говорила по телефону, Абигайл висела у нее на ноге. Жена поднесла палец к губам, призывая мужа помолчать.
– Легок на помине, – сказала она в трубку. – Только что вошел.
Она прикрыла трубку ладонью и качнула одной ногой в сторону Нельсона – на другой крепко висела Абигайл.
– Смотри не упади, – сказала Бриджит тихо. – Мортон Вейссман хочет встретиться с тобой завтра за ленчем.
Вейссман небрежно назвал «Перегрин», модный гриль-бар на другой стороне университетского города, и Нельсон от растерянности не догадался предложить место подешевле. В полдвенадцатого он расхаживал по тротуару перед баром; Вейссман предложил прийти пораньше, пока не набежала очередь. Несколькими магазинами дальше Нельсон приметил Фу Манчу; его красный платок горел, как флаг. Нельсон повернулся в другую сторону и увидел идущую навстречу Линду Прозерпину; она на ходу ела печенье из пакета. Нельсон юркнул в бар.
Хозяйка усадила его в глубокой нише; тут же возник долговязый молодой официант с тщательно уложенными волосами и спросил, чего бы он хотел выпить. Нельсон предпочел бы импортное пиво, которое тут предлагали в самом широком ассортименте, но спросил воды. Он не знал, придет ли Вейссман, и не хотел тратить четыре доллара на кружку пива. На работе остались сандвичи с сыром. Когда-то, в лучшие времена, он захаживал в «Перегрин», однако это было до теперешнего падения. Сейчас, если они с Бриджит и выбирались пообедать – очень редко, обычно если теща из Чикаго присылала чек, – то в какое-нибудь шумное, чересчур освещенное кафе, где очередь за микроскопическим куском резинового мяса и позапрошлогодним салатом продвигалась со скоростью ледника, а оглушительный музон сладким сиропом лился в уши. По сравнению с этими кафешками «Перегрин» с его деревянными полами и резной барной стойкой казался раем. Кормили изысканно и вкусно, расторопные официанты со спортивной грацией скользили между столами, блюз и джаз, куда лучшие по составу авторов/исполнителей, звучали ровно на нужную громкость из прекрасно отлаженной акустической системы.
Официант принес воду. Нельсон поглядел на стакан, но пить не стал, гадая, придется ли платить, если предстоит уйти. Меню он даже не открыл, чтобы напрасно не травить душу, все равно ему это не по карману, особенно если Вейссман не явится. Вместо этого Нельсон стал разглядывать публику и приметил нескольких звезд с других факультетов. Долговязый профессор индейской антропологии, отбросив назад белокурые волосы и выставив щетинистый подбородок, смотрел, кто еще пришел. За соседним столиком несколько специалистов по куриному полиомиелиту, двигая кадыками под туго затянутыми галстуками, возбужденно обсуждали, как им пробиться в Совет по национальной безопасности. Пламенная феминистка с юридического факультета, встряхивая копной непослушных волос и размахивая руками, рассказывала восхищенным слушательницам с такими же непослушными волосами, как она вчера в телепередаче отбрила Теда Коппела[80].
Нельсон взглянул на часы. Вейссман опаздывал на десять минут. В любой момент могла подойти хозяйка и попросить, чтобы он что-нибудь заказал или хотя бы пересел ближе к туалету.
– Нельсон, мой добрый друг!
Нельсон поднял глаза – Вейссман вешал дорогое пальто на крючок у входа в нишу. Улыбаясь, бывший наставник двумя руками схватил его ладонь и энергично потряс.
– До чего же приятно вас видеть! Как давно мы не встречались, дорогой мой друг!
– Рад вас видеть, – сказал Нельсон и слабо добавил: – Профессор Вейссман.
– Что такое? Почему вдруг «профессор Вейссман»? Мне казалось, мы знакомы гораздо ближе.
Не успел Нельсон ответить, как подскочил долговязый официант. Вейссман заставил его повторить, медленно, весь список импортного пива, прежде чем остановил выбор на бельгийском бренде по шесть долларов за бутылку.
– А вы, Нельсон? – Вейссман широким жестом подозвал официанта назад.
– Я так рано не пью. – Нельсон потянулся к воде. Вейссман отпустил официанта.
– Боже мой, Нельсон, неужели и вы заделались постмодернистским пуританином? Пьете только бутафорскую воду?
– М-м, нет. – Нельсон подумал: а вдруг официант принес минералку, за которую придется платить? – и отодвинул стакан.
– Недавно я угощал аспирантов, так они пили только жуткое безалкогольное пиво. – Вейссман отодвинул меню, делая вид, что это просто красивый жест, а не дальнозоркость, помноженная на тщеславное нежелание носить очки. – Или приторный лимонад, похожий на разведенные леденцы. Фу, при одной мысли зубы болят!
– Мне просто немножко рано. – Нельсон открыл меню. Он не знал, заплатит ли Вейссман за ленч, поэтому читал только цены, выбирая, что подешевле. Он с удовольствием вспоминал здешние бургеры – «Перегрин» выращивал собственных бычков, – но они были слишком дороги. Он знал, что с чаевыми может потратить долларов десять, поэтому проглядел страницы с закусками и салатами, не решившись даже взглянуть на горячие блюда.
– Сегодня я попробую что-нибудь новенькое, – сказал Вейссман официанту, когда тот поставил перед ним пиво. – Возьму-ка лонг-айлендскую утку с пряным винегретом. И морковь, если вы твердо поручитесь, что она не из банки.
– Разумеется. – Официант тряхнул головой.
– Отлично! – Вейссман широким жестом протянул официанту меню. Тот посмотрел на Нельсона.
– М-м. – Нельсон прочистил горло. – Домашний салат?
Официант сморгнул. Нельсон протянул ему меню.
– С хлебом? – Официант сунул оба меню под мышку. Нельсону захотелось вырвать меню обратно. Полагается хлеб к салату или за него надо платить отдельно?
– Нет! – выдохнул он. – Нет, спасибо. Без хлеба, пожалуйста.
В конце концов, на работе есть сандвичи. Официант ушел. Вейссман свел ладони, потер руки и подался вперед.
– Ну, Нельсон. – Он понизил голос, глаза его сверкали. – Выразить не могу, до чего я обрадовался, увидев вас на вчерашнем семинаре. Какое облегчение, когда в зале есть хотя бы один здравомыслящий человек.
– Я тоже был рад, что пришел… Морт.
– «Лесбийский фаллос»… Вы когда-нибудь слышали подобную чушь? Предположим, я подготовлю доклад о мужской вагине. Воображаете, какой вой поднимет наша политкорректная рать? О дивный новый мир, – добавил Вейссман, как будто Нельсон не слышал его вчера, – в котором есть такие люди.
Нельсон пожал плечами. Ему следовало вступиться за Виту, но он не знал, зачем Вейссман пригласил его на ленч, и хотел это выяснить.
– Вам не надо говорить, – продолжал профессор со скорбной маской на лице, – что мы живем в трудное, в отчаянное время. Я имею в виду не только захлестнувшую все вульгарность, но нечто другое, гораздо более близкое нам с вами. Как сотрудникам одного факультета. Как коллегам.
Нельсон изумленно заморгал. Коллегам? Когда Вейссман в последний раз преподавал литературную композицию?… Тот сурово смотрел в какую-ту точку у Нельсона над головой.
– Идет атака на самые основания нашей культуры, атака со всех сторон. Вчера вы слышали ту… слишком слабо будет сказать трескотню… то dreck[81], то merde[82], что в наше время называют научной дискуссией.
Вейссман подождал, словно ожидая ответа, и быстро взглянул на Нельсона.
– Понимаете, Морт, – начал тот, – Вита… – «Моя соседка по комнате, мой товарищ», хотел сказать он, однако Вейссман тряхнул головой.
– Очень милая молодая особа, не сомневаюсь. Как многие дурнушки. – Профессор подался вперед и зашептал: – Но скажите, Нельсон, неужели бы она стала молоть весь этот вздор про фаллос, если бы хоть раз держала его в руках?
Нельсон почувствовал, что краснеет, отчасти от смущения, отчасти от обиды за Виту.
Подошел официант, неся на вытянутой мускулистой руке длинную тарелку с вейссмановой уткой, облитой соусом, обложенной поджаристым картофелем, искусно украшенной ломтиком помидора и букетиком петрушки. Парень ловким движением поставил тарелку перед Вейссманом, потом шваркнул Нельсону его салат.
Старый ментор выпрямился и встряхнул салфетку. – Поверьте, Нельсон, – сказал он, примеряясь вилкой и ножом, как хирург перед первым надрезом, – тридцатилетние девственницы не такая уж редкость в современном научном мире.
Немного соуса брызнуло на стол. Нельсон посмотрел на мисочку салата «ромэн» с гренками. От запаха жареной утки ему чуть не сделалось дурно. Он поднял глаза и увидел, что хозяйка провожает Антони Акулло и Миранду Делятур к столику в центре зала: Акулло крепко держал Миранду под локоть, а та по-птичьи поводила изящной головкой, примечая затаенное восхищение постмодернистского антрополога и косые взгляды пламенных феминисток.
– Нельсон? – Вейссман замер с вилкой в руках, затем проследил взгляд своего визави и улыбнулся.
– Простите. – Нельсон взял вилку и подцепил кусок салата. – Вы говорили…
– Не извиняйтесь. – Вейссман вилкой и ножом терзал утку. – Разумеется, было время, когда джентльмен мог открыто восхищаться красивой женщиной. – Он метнул взгляд в центр зала. Акулло усаживался и поправлял манжеты. Миранда разгладила узкую юбку, пока хозяйка пододвигала ей стул. – Добыча достается победителю. – Вейссман подцепил на вилку розовый кусок утиного мяса.
Нельсон жевал салат, как будто это жилы. Палец заболел снова.
– Конечно, наш досточтимый декан как нельзя лучше иллюстрирует мою мысль. Подумайте, чем должен заниматься факультет английского языка. Конечно, таких задач много, но я не ошибусь, сказав, что главная из них – нести из поколения в поколение традиции английской поэзии, прозы, драматургии. Вы согласны?
Нельсон проглотил, что было во рту, утер губы салфеткой и собрался ответить.
– Позвольте мне. – Вейссман поднял руку. – Если это так – а я верю, что это так, – то что может быть важнее, чем обучать младшекурсников, приобщая наиболее талантливую молодежь страны к литературной классике?
Профессор положил кулаки на край стола, указуя на Нельсона ножом и вилкой.
– Однако что происходит? Поскольку оспаривается сама концепция классики, наши постмодернистские друзья попали в странное положение: они одной рукой дают, другой отнимают. Вы видите всю ироничность ситуации? Это было бы почти смешно, когда бы не было так трагично. Талантливых, впечатлительных молодых людей знакомят с книгами и писателями, которых они сами по себе скорее всего никогда бы не прочли, и тут же говорят, что этим книгам нельзя верить, что авторами двигали нечистые, политические или – как они это называют – гегемонистские мотивы. Знакомят студентов, скажем, с Джейн Остен, предлагают оценить ее остроумие и изящную точность, и тут… – Он помахал ножом и вилкой. – Эй, полегче! Зря восхищаетесь! Она расистка и империалистка, потому что ни словом не упомянула о бедных угнетенных ямайцах!
Нож и вилка, как бомбардировщики, спикировали на утку.
– И что из этого извлекают бедные студенты? Читайте эти книги, дети, но не смейте их любить. Доверчивым юнцам говорят, что книги – великие книги, Нельсон, жемчужины нашей цивилизации – ценны лишь как культурные артефакты, свидетельства идеологических заблуждений. Мой Бог, Нельсон, их учат, что самый язык порочен и не заслуживает доверия! На уроках английской литературы!
Голос его взмыл. На лбу и верхней губе выступил пот. Вилка и нож дрожали в воздухе. Вейссман глубоко вдохнул, успокаиваясь, и подцепил поджаренную картофелину.
– Если, конечно, – продолжал он энергичным шепотом, – книга не написана женщиной или представителем расового или сексуального меньшинства, потому что в таком случае она полезна, контргегемонистична и должна считаться величайшим произведением искусства.
Нельсон нервно оглянулся. Вейссман ответил улыбкой.
– Полагаю, вы недоумеваете, при чем тут наш досточтимый декан. Мне кажется, я не видел вас в этом году на конференции англистов?
– Я туда не попал. – Нельсон не сказал, что пропустил конференцию, потому что надеялся остаться в Мидвесте. Избегая глядеть на Вейссмана, он подцепил еще листочек салата.
– Была адская жара, – сказал Вейссман, – совершенно не по сезону, как мне сказали, даже для Майами. Что ж, вы благополучно не видели нашего достойного декана в сопровождении его пассии и этого брутального коротышки, Грррроссмауля, – продолжал он, прокатывая «р». – Антони говорил вступительное слово на открытии сессии, звучно озаглавленное – простите, мой друг, я только повторяю то, что слышал собственными ушами, – озаглавленное, цитирую, «А хули нам Эдмунд Спенсер?». Кавычки закрываются. Главная мысль этого революционного доклада, как я припоминаю, такая: новый критерий, определяющий, что нам читать, а что нет – Боже упаси, чтобы слово «литература» сорвалось с деканских губ, – новый критерий литературных достоинств, это то, что Антони назвал – я снова цитирую – «градус».




