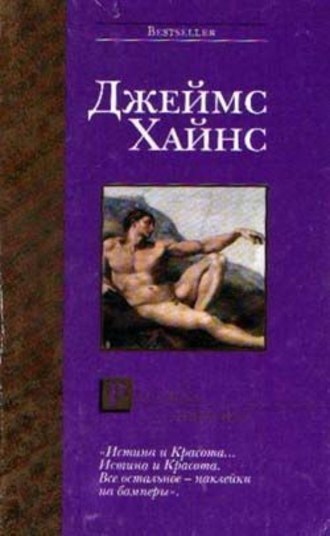
Джеймс Хайнс
Рассказ лектора
Они должны выставлять готтентотов в наиболее хрено-приятном свете. Трансгрессировать гегемонизирующий блядодискурс. Другими словами, должны все, – кричит Куган, – кроме того, что они могут на самом деле.
Свирепый бармен поворачивается на крик, но Куган, сдувшись, оседает на скамейке.
– Истина и красота, Клинк. Истина и красота. Все остальное – наклейки на бамперы.
Куган поднимает бутыль и смотрит на просвет, сколько еще осталось. Поднимает к желтушному свету стакан, безошибочно целит бутылкой.
– Грязный старикашка Платон, – бормочет он, хихикая, как школьник. – Ему бы это понравилось, старому содомиту.
Дзынь! Что-то! Всплывает!
– За старого содомита. – Нельсон поднимает стакан, пытаясь сменить тему.
Куган не слушает, крутит бутылку на просвет – доктор Джекилл, подбирающий дозу снадобья.
– Я ваш ручной поэт, – говорит он, – ваш пленный художник. Старый Эзра был последний поэт на воле, и вы засадили его в клетку. После этого мы усвоили урок, выбрали себе по уютной клетке и отдали вам ключи. В обмен на что? Бессрочный контракт и двухмесячный летний отпуск.
Он выпивает одним махом. Морщится. В глазах слезы.
Дзынь! Дзынь! Дзынь! – пищит эхолот. Слова Кутана его включили. Нельсон замечает что-то в волнах. Паунд. Куган помянул старого антисемита Эзру Паунда.
– Раньше чистые продукты Америки сходили с ума. – Куган икает. – Теперь они заседают в комитетах.
Не забыть бы, думает Нельсон, трезвея, его шуточку про старого содомита Платона.
– Один из членов комитета сказал, что я поэт второго ряда. – Пьяные глаза смотрят через янтарное стекло. – Мне в лицо! – ревет Куган, грохая стаканом по столу. Бурбон брызжет во все стороны.
Бутылка и стакан Нельсона подпрыгивают, как народные танцоры в сабо.
Эгей! Фонтан на горизонте! Белый кит на траверзе! Нельсон вжимается в сиденье, трезвея еще на четверть дюйма. Детина-бармен с железобетонным лицом выходит из-за стойки. Мятые личности даже не оборачиваются.
– Вы двое. – Бармен сжимает в руках тряпку, как будто душит цыпленка. – Вон.
Куган выскальзывает из-за столика и тянется к бутылке. Бармен перехватывает его запястье и давит, пока Куган не разжимает пальцы.
– Я заплатил за бутылку, – говорит Куган, потирая руку.
– Ты заплатил за столик. – Глаза у бармена, как винтовочные прицелы. – Я позволил тебе пить из бутылки.
Куган едва стоит. Нельсон встает из-за стола и обходит квадратного бармена. Глаза у Кугана полны муки и сострадания к себе; кажется, он не оставил надежды схватить бурбон.
– Пойдемте, – говорит Нельсон, пытаясь развернуть его за плечо.
– Убери руки! – Куган отпрыгивает за бармена. – Убийца!
Нельсон мгновенно трезвеет. Он вспоминает, зачем он здесь. Анонимное письмо по-прежнему в кармане, и впервые с тех пор, как они сегодня вечером начали пить – или это было вчера вечером? – Нельсон ощущает его вес. Палец пульсирует.
– Этот человек – мой палач! – Куган цепляется за бармена сзади, разворачивает его к Нельсону. – Его послали меня убить!
– Я-я-я… – заикается Нельсон.
Бармен бросает тряпку через плечо, освобождая руки. Нельсон пятится.
А Куган, пока никто не видит, хватает бутылку, резво огибает бармена и бежит к двери.
Бармен отбрасывает Нельсона в сторону, ловит Кугана за пальто и втаскивает обратно. Ноги поэта скребут по грязному линолеуму, бутылка прижата к груди. Бармен разворачивает жертву к себе и бьет кулаком под дых. Бутылка падает и разбивается. Куган безмолвно складывается пополам. Нельсон успевает подхватить его под мышки и выволакивает, стонущего, за дверь.
Мелкий ровный снежок шуршит в морозном воздухе. Свалка строительного мусора под фонарем, окруженная с одной стороны стеной, с трех остальных – тьмой. Куски бетона, битое стекло, куски жести, мотки проволоки – все присыпано толстым слоем снега. Двое бредут по сугробам, оступаясь на шатких обломках кирпича, один держит другого. Человек в скользкой парке тяжело дышит, пар равномерно вырывается из его рта. Мужчина в пальто, согнувшись в три погибели, через неравные промежутки времени выпускает бледные облачка. Одной рукой он держится за живот, другой слабо отбивается от спутника. Наконец он почти случайно попадает тому по лицу, и парка его отпускает. Пальтовый тяжело падает на колени, упирается кулаками в снег. На четвереньках, сгорбясь, как бегун на низком старте, блюет тонкой чистой струей, прожигая нетронутый снег.
Он утирает рот тыльной стороной ладони, выпрямляется на коленях, пыхтя паром, поднимает глаза. Его спутник неразличим в слепящем свете фонаря.
– Убийца, – хрипит Куган.
Нельсон крепко стоит на ногах, он совершенно трезв. В баре он вспотел; сейчас липкую кожу стягивает на холоде, как черную кожаную перчатку. Только палец теплый. В ярком свете фонаря свет вокруг, на земле, в воздухе, искрится бриллиантами.
– Вас ко мне подослал этот макаронник, да? – Куган говорит совсем без акцента, даже шепот дается ему с трудом. – Вы здесь, чтобы «доставить ему удовольствие»?
Да? Нет? Нельсон не отвечает.
– Никто не ждет Испанской Инквизиции. – Куган хрипло смеется. Он смотрит на Нельсона снизу вверх. – Вы мой судья, присяжные и палач. Не удивляйтесь. Вы – иезуиты, заплечных дел мастера, вся ваша поганая свора. Это пробирное клеймо вашей паразитской профессии. Слепота и прозрение[100], верно? Мы – слепые ублюдки, вы наделены даром прозрения. Вы выставляете себя маленькими бумажными божками и судите всех. Студентов. Коллег. Никчемные книжки, которые ваяет ваш брат. Он кашляет.
– Но, главным образом, вы судите нас, – говорит Кутан, искоса глядя на Нельсона, – бедных художников, идиотов ученых, поставляющих зерно для вашей паршивой мельницы.
– Человек считается невиновным, – говорит Нельсон, – пока не доказано обратное.
Холод пробирает его до костей, сжимает сердце. Ему не жаль этого пьяного похотливого расиста. Человек, стоящий на коленях в снегу, представляет угрозу – факультету, коллегам, студентам, маленьким невинным дочерям Нельсона.
Кутан с пристальным интересом смотрит, как Нельсон лезет в карман, достает Витино письмо и с треском разворачивает хрупкий от мороза листок.
– Это вы писали? – Палец горит.
Куган устало смотрит на письмо, бледными пальцами запахивает воротник и отводит глаза на искрящийся снег.
– Это судьба Паунда, вывернутая наизнанку, да? Вы вытаскиваете меня из клетки и бросаете подыхать на воле? На воле, где я разучился жить. – Он тяжело дышит, его лицо затуманено паром. – Впрочем, компания убийц та же. Паунда доконали итальянцы и евреи, меня тоже. И Викторинис руку приложила, верно? Наша маленькая факультетская Гертруда Стайн. Это единственное, в чем согласны все трое. Поэта – в задницу.
Его плечи под пальто начинают трястись. Он пыхтит облачками пара. Он смеется.
– Непутевый бумагомарака, – сипит он.
Был охальник и забияка
Итальяшка-злодей,
Лесбиянка, еврей
На мараку спустили собаку.
Куган закашливается от смеха. Нельсон складывает письмо и убирает в карман. Он не чувствует своих рук, они словно на дистанционном управлении. Горящий палец плывет, будто сам по себе. Нельсон смутно осознает движение каждого мускула, холодный заряд каждого нервного импульса. Он шагает к Кугану. Снег хрустит под ногами.
Поэт сильно вздрагивает от этого звука и заваливается на бок, ползет от Нельсона по снегу, по битому мусору, задыхаясь.
– Вы считаете нас дерзкими, – хрипит Куган, – но это неправда. Мы всегда были смиренными, начиная с Кэдмона[101]. Первые стихи на английском языке – о том, что Бог сотворил все. Мы ничего не творим. Тем более поэзию. Мы лишь служители. Сосуды Слова Божия. Этого вам не снести. Свидетельства, что есть авторитет выше, чем литературный критик. А-а!
Куган кричит, выдергивает руку из снега, заваливается на спину. Глядит на свою ладонь, показывает ее Нельсону. Он порезался обо что-то острое под снегом. Кровь у него яркая, как цветок.
Нельсон молча склоняется над поэтом.
– Погодите минуточку. Послушайте.
Грудь его под пальто вздымается. Он закрывает глаза. Он говорит:
Премудрости книжной не стало боле!
О горе, горе! Увы нам, сирым!
Невежды воссели на месте поэтов.
Погас светильник, утрачено знание![102].
Он открывает глаза. Слезы текут по его щекам. Нельсон склоняется над ним, встает на одно колено.
Куган начинает дрожать.
– Где твое смирение, Клинк? Лишь дерзкий смотрит на все мироздание и видит только слова, слова, слова[103]. Худшая трагедия в жизни, куда ни кинь. Все мы в канаве, Клинк, но некоторые из нас глядят на звезды[104].
Он с усилием приподнимается и хватает Нельсона за парку.
– Подними глаза, ты, иезуит, спроси себя: что есть звезды? что есть звезды?[105]
Нельсон стискивает его запястье и давит, пока Куган не разжимает пальцы. На парке кровь. Поэт падает навзничь, во весь рост, как будто хочет оставить свой отпечаток на снегу. Он смотрит в небо, но за светом фонаря никаких звезд не видно, только тихо падающие снежинки, серебристые и темные.
– Времени в диссонанс, – шепчет Куган, – я силился возродить умершее искусство поэзии. – Его синие губы с минуту движутся беззвучно. – Ошибка с самого начала[106].
Нельсон на одном колене перед ним. Возможно, он молится или совершает последнее помазание. «Меня ожесточила так судьба, – думает Нельсон, – что я пойду на все, чтоб за несчастья отмстить другим[107]». В пальце нарастает жгучая боль.
Нельсон берет Кугана за руку – оба так занемели от холода, что не чувствуют прикосновения – и говорит поэту, что тому делать.
9. НА СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО
Нельсон проснулся с таким похмельем, какого прежде не знал, разлепил ноющие веки и понял, что глядит на трубы, провода и паутину в подвале собственного дома.
Он лежал на раскладушке, под ним был только голый матрас. Абигайл стояла в нескольких шагах от него, держа вверх ногами безголовое чудовище из «Улицы Сезам», и, щурясь, смотрела на отца.
– От папы плохо пахнет, – сказала она и убежала по лестнице.
Нельсон медленно сел и сбросил на пол непомерно большие ноги. Он был по-прежнему в галошах. И в парке, с полоской засохшей крови на левом лацкане. Он сам чувствовал, что от него разит виски, потом и несвежим дыханием. Во рту пересохло.
Он поднялся по лестнице, щурясь от света и потирая щетину. Сердце колотилось при каждом шаге; на самом верху пришлось остановиться, держась двумя руками за дверь.
Бриджит на кухне жарила яичницу с ветчиной и яростно не замечала мужа. Он знал, что не осмелится с ней заговорить, и перевел взгляд на Клару. Дочь за обеденным столом читала детский комикс и старательно игнорировала отца; даже поворот шеи у нее был такой же возмущенный. От запаха скворчащего сала Нельсона затошнило; он смутно подумал, успеет ли добежать до уборной на ослабевших ногах. Поле зрения сузилось до булавочной головки. Интересно, который час? Где часы? Где они висят?
– Который час? – услышал он свой голос. Он не собирался спрашивать это вслух. Язык еле ворочался.
– Утро воскресенья, папа, – сказала Клара, не поднимая глаз от книжки, – идеальный симулякр матери, только на октаву выше.
Нельсон принял душ, побрился и затолкал вонючую одежду в самый низ корзины. Стоя перед раковиной в чистых трусах, он потер тряпкой парку. Часть крови сошла, но на ткани осталось неистребимое бурое пятно. Вытаскивая чистые брюки и рубашку, он вспомнил про сочинения, которые надо проверить к понедельнику. Они так и остались на работе.
На его тарелке стыла яичница с ветчиной. Бриджит и девочки завтракали в молчании. К горлу вновь полепила тошнота. Только Абигайл повернулась в его сторону, и Нельсон до самой двери не смел поднять глаза от пола.
Воскресным утром под бледным ноябрьским небом университетский городок будто вымер, укрытый толстым снежным одеялом. Дворники еще не расчистили тротуары, и Нельсон, щурясь от слепящего снега, в тиши прокладывал первую глубокую тропку по белой целине. Заснеженные зубцы часовой башни притягивали взгляд. Ветер взметнул в небо призрачное белое крошево, и у Нельсона по спине пробежал холодок. Ему подумалось: вдруг в последние двадцать четыре часа башня привлекла еще одного самоубийцу, а я просто не знаю? Последний раз он видел Кутана в дверях дома, пока зевающий таксист ждал у тротуара. Нельсон нервно взглянул на присыпанное снегом книгохранилище, ожидая увидеть среди сугробов дыру в рост стихотворца. Однако стеклянная крыша книгохранилища ровно белела в утреннем свете, и Нельсон, подняв глаза, без страха посмотрел в огромное белое око циферблата. Слишком холодная погода для призраков.
Вчера в дверях своего дома Куган вцепился в него рукой и зарыдал в парку.
– Куда мне идти? – хрипел он. – Что делать?
– Вообще-то, дорогуша[108], – почти сказал Нельсон, но промолчал и вышел, оставив поэта сидеть у стены в прихожей – ноги раскинуты, руки ладонями вверх на животе, с подбородка стекают сопли. Нельсон не помнил, как такси довезло его до дома.
Он медленно поднялся по лестнице на третий этаж Харбор-холла, вошел в кабинет, не глядя, вынул из кармана Витино письмо и, засунув его в университетский конверт, положил ей на стол. Вдруг дал о себе знать палец – так, что почти захотелось отрезать его снова.
Строчки бегали по странице, и Нельсон довольно скоро отодвинул сочинения в сторону. Толком не сознавая, что делает, он встал, открыл дверь и свернул направо по коридору. Все творческие сотрудники, даже постоянные, сидели на третьем этаже с внештатниками. Нельсон шел от одной двери к другой, пока не оказался перед кабинетом Кутана. И замер – дверь была не просто приоткрыта, но распахнута настежь.
Нельсон облизнул губы и обернулся в сторону своего кабинета и лифтов. «Если не считать ошалелых от кофеина училок в бомбоубежище, – подумал он, – я, наверное, единственный живой человек в здании». Выражение подвернулось исключительно некстати: сердце застучало, колени задрожали; помимо воли Нельсон шагнул к двери, ожидая в любую секунду увидеть распростертое на полу тело. Или хуже: вдруг кто-то висит под потолком – тяжелый, обмякший, темный в сиянии снега за окном? Палец обратился в лед.
Однако кабинет оказался пуст. Более того, выметен подчистую. Осталась только казенная мебель: стул с протертым сиденьем, старый стол, серые металлические шкафы. Все вещи Кугана исчезли: книги с полок, кипы «Айриш таймс» и «Американского поэтического обозрения» из углов, вытертый турецкий ковер с пола. Впервые за два десятилетия стол обнажился до матовой черной поверхности, даже кнопки были выдернуты из приклеенной к стене крошащейся пробковой доски. Ни обрывка бумаги, ни скрепки на полу, ни клочка лейкопластыря на стене. Исчез плакат Ирландского туристического агентства с надписью «Вернись на Иннисфри[109]» по-гэльски и по-английски, которым Куган закрыл дверное стекло, чтобы без помех заниматься тем, чем уж он занимался в кабинете. Единственное, что осталось от хозяина, – светлые прямоугольники на тех местах, где были прикноплены прокламации Восстания на Пасхальной неделе[110] и журнальные фотографии знаменитых поэтов. Даже запах Кугана выветрился; в кабинете было холодно и сыро, как в склепе. Нельсон вжал голову в плечи, словно опасаясь удара из-за спины. Его подмывало открыть ящики стола, но он боялся шума и боялся того, что там может увидеть.
Сзади скрипнули шаги. Нельсон стремительно обернулся. В дверях стоял Лайонел Гроссмауль, обвисший свитер подчеркивал узость плеч и ширину зада. Стоял молча, тараща на коллегу злые выпученные глаза, увеличенные толстенными стеклами очков.
– Ваша жена сказала, что вы у себя в кабинете, – прогнусавил он. «У себя в кабинете» прозвучало, как обвинение.
– Я-я-я увидел, что дверь открыта, – промямлил Нельсон, – и просто зашел… м-м-м…
– Профессор Кутан больше в университете не работает. Он уволился со вчерашнего дня.
Лайонел сглотнул, кадык заходил у него на шее так, что Нельсона замутило.
– Уволился в выходные, – продолжал Лайонел еще более обвиняющим тоном. – Пришлось убираться у него в кабинете. Не мог подождать до понедельника.
Нельсон не смел шелохнуться. Пустой кабинет давил ему на плечи.
– Мне ничего про это не известно.
– Декан Акулло хочет видеть вас завтра, – сказал Лайонел, – как можно раньше.
Лайонел пошел прочь. Нельсон стоял, парализованный, слыша, как хрустит под его ногами грязный линолеум, потом сорвался с места и стремглав выбежал в коридор. Лайонел входил в лифт. Нельсон, проехав с разбегу чуть ли не полметра, остановился перед самой кабиной.
– Погодите! – крикнул он. Двери уже закрывались.
– Вы знаете, зачем я ему нужен? – крикнул Нельсон, силясь заглянуть в сужающуюся щель.
– Да, – ответил Лайонел Гроссмауль, и двери закрылись.
Проведя еще ночь в подвале на раскладушке, Нельсон пришел в понедельник на работу и обнаружил, что почти все его студенты разъехались
Была неделя Благодарения; на утренние занятия явились по два-три студента. Нельсон раздал сочинения и отправил ребят по домам, потом собрался с духом и поехал на восьмой этаж.
Лайонел был на посту у кабинета Акулло и яростно стучал по клавиатуре компьютера. Он оторвал глаза от экрана, только чтобы выразительно взглянуть на часы.
– Вы опоздали. Декан на пути в Швейцарию.
– Вы не назвали мне время, – ахнул Нельсон. Лайонел скривил губы.
– Он только что вышел. – Пальцы его и на мгновение не покидали клавиатуру. – Если побежите быстро, как зайчик, может, еще нагоните его по пути к машине.
Нельсон, не дожидаясь лифта, сбежал по лестнице и выскочил из Харбор-холла без куртки. Он в ботинках без галош помчался по тающему снегу, стараясь перепрыгивать через лужи и всякий раз приземляясь точно посередине. По счастью, площадь была практически пуста: почти все студенты и многие преподаватели разъехались на каникулы. Только Фу Манчу в своей тужурке стоял на цементной урне, расставив ноги, как Колосс Родосский. «Беги, ублюдок!» – крикнул бомж Нельсону.
Наконец он различил удаляющиеся силуэты Антони Акулло и Миранды Делятур в дорогих развевающихся пальто. Они шли вдоль площади к многоэтажной университетской стоянке.
Нельсон догнал их на первом этаже. Декан держал дверцу «ягуара», Миранда закидывала в машину изящные икры. Запыхавшийся Нельсон устремился к ним, пригибаясь под низким бетонным потолком.
– Антони!
Акулло обернулся, взметнулись полы пальто.
– Пр-профессор Акулло, – выговорил Нельсон, заикаясь в такт колотящемуся сердцу.
Акулло оглядел Нельсона с ног до головы, Миранда смотрела сквозь ветровое стекло в пустое пространство. Нельсон остановился по другую сторону машины от декана.
– Твое лицо в крови[111], – сказал Акулло.
Нельсон машинально схватился за щеку. Декан расхохотался, показывая волчьи клыки, открыл дверцу и положил руки на крышу автомобиля. На толстом мизинце болтались ключи.
– Вы хотели меня видеть? – Нельсон покраснел.
– Забавная вещь, Нельсон, – сказал Акулло. – Кто-то внезапно берет расчет. В бюджете появляется немного свободных средств. Можете себе представить?
Нельсон кашлянул и прочистил горло.
– Так что, фантастическим образом, я в состоянии предложить вам трехгодичное лекторство. В благодарность за оказанные услуги. – Он улыбнулся. – Если у вас нет на примете чего-нибудь позаманчивей.
Нельсон поймал себя на том, что смотрит на Миранду, которая со скучающим видом отбросила назад волосы.
– Нельсон?
– Нет! – выкрикнул он. – То есть да! Я согласен на лекторство! У меня нет других… м-м…
– Зарплата небольшая, – сказал декан, – но побольше вашей теперешней. Там надо будет еще поработать в комиссии.
Акулло распахнул дверцу пошире и помедлил, не снимая вторую лапищу с крыши.
– В отборочной комиссии. – Снова волчья ухмылка. – У меня внезапно образовалась свободная ставка, Заходите, когда я вернусь из Гштада. – Он сел в машину и захлопнул дверь.
– Спасибо, – пробормотал Нельсон, окрыленный и какой-то даже обмякший.
Машина ожила, задом рванулась из бокса и поехала на Нельсона. Тот отскочил. Окошко водителя с электрическим визгом скользнуло вниз.
– Надеюсь, вам это по силам, – сказал декан
Рядом с ним, невидимая Нельсону под перламутрово-серой крышей спортивного автомобиля, Миранда Делятур обронила лепесток смеха. Окно взвизгнуло снова. Антони Акулло хохотнул за тонированным стеклом. Машина с ревом выехала на улицу, визжа шинами по асфальту.
Нельсон вернулся домой с самой большой индейкой, какая сыскалась в супермаркете. Бриджит говорила, что на День благодарения приготовит фальшивого зайца, тем не менее он, волнуясь, взял в банкомате пятьдесят долларов и купил индюшку – свежую, не замороженную. Расплачиваясь, Нельсон пальцем тронул кассира за руку и получил индейку за полцены. В соседнем цветочном он – тоже с хорошей скидкой – купил полдюжины красных роз и появился на пороге, как неуклюжий и заботливый Боб Крэтчит[112] – под мышкой индейка, в руке цветы.
– Лекторство? – были первые слова, которыми Бриджит удостоила его за эти три дня. – За что, скажи на милость?
Нельсон стоял в куртке, счастливо улыбаясь. Абигайл протиснулась мимо него и спряталась за мать. За свою коротенькую жизнь она никогда не видела отца таким бодрым и энергичным, поэтому испугалась. Бриджит отвела руку назад и погладила дочь по голове.
– Я хотела сказать… – она покраснела, – что изменилось?
Нельсон открыл рот и не нашелся, что сказать. Бриджит пристально смотрела на него, подозрительность и готовность простить волнами пробегали по ее лицу.
– Я им нужен, – наконец выпалил Нельсон. – У них вдруг образовалась нехватка людей, и я понадобился, чтобы… чтобы заткнуть дыру.
– Все равно ничего не понимаю, – сказала Бриджит, но напряжение, державшее ее эти три дня, немного ослабло. Она больше не отталкивала Нельсона.
Он переложил индюшку в руку и шагнул к жене.
– Все выправится, – начал он, однако его прервал нарастающий вопль дочери.
Оба родителя посмотрели вниз. Абигайл огромными глазами смотрела на волдырь, вздувшийся на полиэтиленовой упаковке с индейкой. Кровь быстро капала из волдыря Нельсону на галоши.
– Папа! – вскричала Абигайл. – Что ты наделал?




