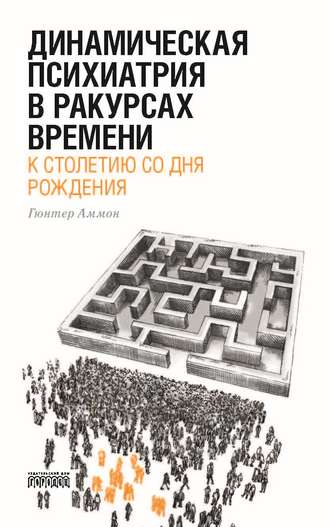
Гюнтер Аммон
Динамическая психиатрия в ракурсах времени. К столетию со дня рождения.
Провоцируемые депрессией реакции противопереноса, напротив, лишены этого качества чуждости, они воспринимаются как Я-синхронные.
Этому соответствует различное самовосприятие пациентов. В то время как депрессивный больной страдает от недостатка любви и обращения со стороны всемогущего любовного объекта и неспособен быть в одиночестве, шизоид или больной шизофренией этого не сознает. Он не страдает и когда живет в состоянии постоянного бессознательного психического напряжения. На это состояние указывал также Fairbairn (цит. по Guntrip, 1952), когда говорил о шизоидных пациентах, чьи жалобы на чувства отрезанности и закрытости, отсутствия контактов, чувства чуждости и отсутствия интересов описывают состояние, которое самими больными часто описывается как депрессия, но которому недостает тяжести и мрачных раздумий, наблюдаемых при депрессии с объектным голодом.
Эта характерная разница показывает, с моей точки зрения, что речь идет о двух специфических, психогенетически различных формах дефицитарного состояния Я, которые восходят к различной истории в преэдипальных отношениях матери и ребенка. Шизофреногенная мать сама имеет множественные нарушения функций Я. Нарушения вызывают шизофреногенное нарушение развития Я уже в самой ранней стадии жизни ребенка, так что он совершенно не может развить когерентное чувство Я. Депрессивогенная мать, напротив, страдает, прежде всего, от специфического нарушения Я, аффективного обеднения. Оно воспринимается ребенком как покинутость с момента, когда мать воспринимается как целостное лицо. И смерть матери к моменту, когда ребенку 2–4 года, может вызвать депрессивную реакцию. При этом решающим является не только мать, но и психический климат всей первичной группы. Я сам встречал в своей практике ситуацию, когда ребенок типично шизофреногенной матери стабилизировался в результате ухода мягкосердечной бабушки. Смерть последней вызвала у трехлетней девочки пожизненную депрессивную реакцию, связанную или чередуемую с тяжелейшими психосоматическими симптомами.
Депрессивогенная мать, так можем мы сказать в целом, способна лишь к аффективно слабым объектным отношениям, однако границы ее Я и соотнесение с реальностью стабильны и более последовательны, чем у шизофреногенной матери. Как чувственно холодная и отвергающая мать, она отказывает ребенку в тепле, эмоциональном обращении и подтверждении – external narcissistic supplies, – которые требуются ребенку для развития и дифференцирования функций своего Я.
В депрессивной реакции поведение и опыт пациента определяются значимым объектным голодом – когда он один, он чувствует невыносимое одиночество и покинутость, от которой он страдает и которая гонит его к безостановочному, часто на всю жизнь, поиску объекта, от которого он требует непрерывно любви и внимания, которых не дала ему мать.
Парализованными этим нарцисстическим дефицитом в смысле негативного чувства Я прежде всего оказываются функции Я конструктивной агрессии и креативности. Следующая из этого архаическая пассивность проявляется затем в повторяющихся попытках пациента возобновить ситуацию ранней преэдипальной зависимости, которая, однако, всегда остается зависимостью от объектов.
Можно в целом сказать, что депрессия всегда переживается в рамках объектных отношений и в них также остается понятной, в то время как шизофренная реакция характеризуется именно отсутствием этих объектных отношений.
Депрессия означает специфическую форму постоянно не удающихся или дефицитарных объектных отношений, шизофрения же есть выражение ситуации, в которой не удался уже подход к объектным отношениям, поскольку оказались не сформированными границы Я.
Jacobson (1954c) следующим образом сформулировала эту разницу: «Если меланхолик обращается с самим собой как с объектом любви, то шизоид или препсихотический шизофреник имитирует объект, он ведет себя так, как если бы был объектом, в то время как пациент в состоянии шизофренного бреда наконец думает сознательно, что является другим объектом».
Депрессивный паралич функции Я агрессии конфронтирует нас со специфически терапевтической проблемой суицидных тенденций, приобретающей особую вирулентность, когда в ходе терапии депрессивная стена, как я хотел бы ее назвать, прорывается и пациент выходит из своей парализованной и парализующей пассивности. Именно в момент, когда появляется первый эпизод конструктивной агрессии и с облегчением воспринимается, пациент переживает свой глубочайший кризис. С одной стороны, он теперь по контрасту измеряет весь объем своего одиночества и беспомощности, с другой – интернализованный запрет конструктивной агрессии, приобретший вторичную деструктивно-патологическую автономию, может получить способность к действию. Именно в этой фазе выхода из экзистенциального паралича происходит поэтому большинство самоубийств.
Freud (1916) понимал, как упоминалось, депрессивный суицид как изнасилование Я объектом, подчеркивая, что убивается интроецированный объект. При этом мы видим, однако, амбивалентную динамику: объект, который убивается, одновременно призывает на помощь и Я, которое разрушается, а должно с помощью суицида одновременно быть сохранено и освобождено.
Клинический пример
Я хотел бы это проиллюстрировать следующим примером: 30-летний студент-филолог, разносторонне одаренный, с хорошей внешностью, высоким интеллектом, пользующийся популярностью у преподавателей и друзей, вырос вместе с сестрой моложе его на несколько лет, с которой он вплоть до периода позднего пубертата делил постель. Мать пациента страдала тяжелыми депрессиями. Она зарабатывала на жизнь домашним рукоделием, в то время как отец под разными предлогами проводил большую часть времени в постели, предаваясь интеллектуально камуфлированному бреду величия и преследования. Отец ожил, когда мать и сын исполнили ему танец-пантомиму проститутки с ее сутенером.
Пациент перенес первые тяжелые депрессии после того, как покинул родительский дом и начал обучение в университете. Кризис был преодолен благодаря отношениям, завязанным с близкой подругой сестры, на которой он женился вскоре после рождения сына. Амбивалентная динамика этой связи была лихорадочной. Пациент постоянно колебался в своих чувствах к жене. Он объяснялся ей в любви и в следующий момент чувствовал, что должен окончательно покинуть ее. Он строил вместе с ней планы совместной жизни, которые, после того как жена увлекалась его воодушевлением, тотчас же оставлял. Чередование эмоциональной привязанности и внезапных разрывов в смысле постоянных поисков объекта и его разрушения буквально загнало жену в безумие. Она начала психотерапию, которую поначалу пациент длительное время контролировал, предписывая жене, что она должна говорить в терапевтической группе и чего нет.
Он сам обратился к психотерапевту, когда их сыну исполнилось 3 года и он отчаялся в своих усилиях стать любящим отцом своему ребенку. В то же время в связи с окончанием обучения обострился также вопрос его профессиональной идентичности, что тоже вызывало у него большую тревогу.
В психотерапии он переживал такую же постоянную смену симбиотических связей и бегства от контакта. Терапия представлялась то жизненно важной, то угрозой для жизни.
Особая проблема для пациента заключалась в том, что он, с одной стороны, был наделен блестящим интеллектуальным фасадом, связанным с поверхностно интегрированной социальной аффективностью, с другой же – боялся всякого успеха и пытался его сразу же уничтожить.
Он покончил с собой после того, как в диком водовороте меняющихся объектных отношений истощил себя, оказавшись на грани психического срыва и без консультации своего терапевта, обратившись в психиатрическую клинику. Здесь ему удалось за короткий срок восстановить свой фасад уверенности. Он покинул клинику, где его считали здоровым, и отравился газом в то время, когда мог еще рассчитывать быть найденным женой, отправившейся с сыном с визитом к родственникам. Эта динамика – инсценировать самоубийство как суд божий, решение которого остается неизвестным до последнего момента, по моему опыту является характерной чертой динамики этих пациентов.
Обсуждение
Freud (1916) в своей цитированной работе указал на то, что на примере меланхолии можно наблюдать, «как одна часть Я противостоит другой, критически оценивает ее, принимает ее за объект». Он причислил эту «инстанцию, обычно называемую совестью», к «большим учреждениям Я» и высказал ожидание «найти где-нибудь также доказательства того, что она может заболеть сама по себе».
Изучение динамики депрессии привело Freud к открытию сверх-Я, поскольку лишь в депрессии Я и сверх-Я проявляются раздельно друг от друга. Они не перекрывают друг друга, между ними нет гармонии. Сверх-Я в депрессии приобретает скорее господство над Я. Freud (1923) считал сверх-Я неосознаваемым компонентом Я, который столь же неосознаваем, как не допускаемые в сознание инстинктивные притязания Оно при неврозе.
Заболевание сверх-Я, о котором говорил Freud (1916), выводит нас на патологическую динамику группы, в рамках которой развивается сверх-Я. Сверх-Я представляет, так сказать, интернализованную группу раннего детства, в особенности ее ценностные масштабы. В приведенном выше случае депрессия пациента была выражением психопатологии семейной группы.
Во время диагностического процесса мелькнуло подозрение о наличии шизофренной реакции параноидного типа. При дифференциальной диагностике выяснилось, однако, отсутствие специфически шизофренных нарушений мышления. За психотическую депрессию говорило, кроме того, то, что пациент чрезвычайно страдал от своей неспособности любить, был неспособен оставаться один, и страдал в одиночестве и в присутствии семьи и друзей от невыносимого чувства одиночества и тяжелейших идей малоценности и собственной вины, в особенности по отношению к ребенку. Вследствие навязчивого повторения он вынужден был постоянно искать новых объектных отношений и снова разрушать их.
Преследующая враждебность сверх-Я нашла свое выражение в параноидных фантазиях, которые, как известно, часто бывают при депрессии, в т. ч. шизофренного круга.
Описанный здесь процесс является примером большого числа молодых пациентов со сходной психодинамикой, динамикой нарцизма и связанного с этим страха идентичности. Все более компульсивное решение идентифицировать себя с терапией, с одной стороны, с профессией и ролью отца и супруга, с другой, было для пациента подобной угрозой его нарцисстическим потребностям, которые, со своей стороны, представляют собой реакцию на нарцисстический дефицит (причиненный неспособной любить матерью и семейной группой).
Как мы покажем в следующих главах, «Сексуальная перверсия» и «Пограничная симптоматика», здесь имеется психодинамическое родство при Я-структурных различиях. Недавно также Balint (1968) критически высказался по поводу развития концепции нарцизма в психоаналитической науке. Он указал на противоречия трех теорий в развитии концепции нарцизма у Freud:
1 первичная любовь к объекту (Freud, 1905a),
2 первичный аутоэротизм (Freud, 1914),
3 первичный нарцизм (Freud, 1914).
Balint придерживается мнения, что теория первичного нарцизма «больше создала проблем, чем решила», и должна быть оставлена как неплодотворная. На ее место он ставит свою концепцию «первичной любви», ориентированную на теорию первичных отношений ребенка с окружающим миром.
Я присоединился бы к концепции Balint потому, что она подчеркивает взаимозависимые отношения в диаде матери и ребенка. С моей точки зрения, при этом следовало бы учитывать динамику первичной группы. Я считаю полезным для клинической практики сохранить концепцию Freud вторичного нарцизма и наряду с этим ввести третичный нарцизм как компенсацию нарцисстического дефицита (дыры в Я).
В качестве четвертичного нарцизма я обозначаю здоровый нарцизм в смысле автономии Я и расширения идентичности (см. гл. о психосоматике).
5. Сексуальная перверсия
Сексуальные перверсии являются в некотором отношении парадигмой для структуры и динамики архаических заболеваний Я. Их систематическое изучение тесно связано с развитием психодинамического мышления и внесло существенный вклад в понимание генеза и динамики т. н. психических заболеваний.
Freud (1905a) открытием полиморфной перверсной сексуальности ребенка установил связь между нормальным сексуальным поведением и «сексуальными отклонениями», позволившую понять перверсную сексуальность как выражение и результат неудавшейся интеграции психосексуального развития. Он понимал перверсии как «увеличенную и разделенную на свои отдельные побуждения инфантильную сексуальность» (Freud, 1916/17) и противопоставлял их неврозам как специфический защитный механизм, считая невроз, «так сказать, негативом перверсии» (Freud, 1905a). Он придерживался мнения, что перверсное поведение, как и невроз, является выражением неразрешенного эдипального конфликта. Под давлением сильного страха кастрации перверсный больной регрессирует на более ранние фазы сексуального развития – регрессия, которая делается возможной благодаря преждевременной фиксации инфантильного развития либидо. Перверсия проявляется поэтому, прежде всего, как знак неудавшегося вытеснения эдипальных стремлений, которое ведет к дезинтеграции организации либидо, уже интегрированной в фаллически-генитальной фазе.
Позднее на первый план выдвинулся аспект психологии Я. На примере фетишизма Freud предложил свою теорию: перверсная защитная операция находится в середине между неврозом и психозом. В качестве компромиссного формирования фетиш имеет характер невротического симптома, связанное же с фетишизмом отделение от реальности с помощью механизма отрицания имеет, напротив, психотический характер (Freud, 1927).
В своей концепции «расщепления Я в процессе защиты» (Freud, 1938a) Freud обратил внимание на структурные следствия этой защитной операции. Операция одновременного признания и отрицания реальности, ведущая к фетишистскому компромиссному формированию, позволяет, чтобы «инстинкт сохранял свое удовлетворение» и «одновременно уплачивалась должная пошлина уважения реальности». Этот успех, однако, «достигается за счет повреждения в Я, которое никогда не заживает, а со временем увеличивается». Он заключает: «Обе противоположные реакции на конфликт остаются ядрами расщепления Я».
Freud предполагал, что эдипальная угроза кастрации формирует исходное положение конфликта, однако констатировал: «Весь процесс представляется нам таким странным, поскольку мы считаем синтез процессов в Я чем-то само собой разумеющимся. Но мы очевидно в этом неправы. Столь чрезвычайно важная синтетическая функция Я имеет свои особые условия и подлежит целому ряду нарушений».
Тем самым поднят вопрос о специфических условиях развития, предрасполагающих Я к «расщеплению в процессе защиты». Вопрос, ответ на который дает возможным точный анализ преэдипального развития Я.
Уже Freud (1905a) нашел у гомосексуалов «примитивные психические механизмы» и «архаическую конституцию», а также позднее тесную связь между паранойей и гомосексуальностью (Freud, 1911).
Glover (1933) придерживался мнения, что в перверсии проявляются архаичные механизмы защиты от примитивных, относящихся к самому раннему времени жизни, страхов, в особенности интроекция и проекция. Он полагал, переиначивая формулировку Freud, что перверсия представляет собой негатив скорее психоза, чем невроза.
Gillespie (1952) также подчеркивает преобладание примитивных, ранних фаз развития соответствующих защитных механизмов при перверсии и полагает, что отличие невроза от психоза заключается не в наличии и отсутствии защиты, а в «защите вытеснением и более примитивной защите шизоидного и расщепляющего характера».
«Сексуальные отклонения», сначала изучавшиеся как проблема неудавшейся интеграции инстинкта, становятся ключом для исследования «синтеза процессов Я» и их «особых условий» (Freud, 1938a), т. е. развития Я и идентичности.
Решающий вклад здесь сделан Khan (1968, 1972). Он понимает сексуальную перверсию как «социальное отреагирование инфантильного невроза перверсных больных». Перверсное взаимодействие он описывает как попытку «репарации самости», которая должна быть в перверсном акте восстановлена как «идолизированный внутренний объект».
Вслед за Winnicott (1954, 1960, 1963) он понимает эти попытки репарации не в смысле нейтрализации орально-садистических импульсов (Klein, 1932, 1934, 1940), а видит в этом искалеченное проявление первично конструктивного вклада, с которым ребенок выступает для активного формирования межличностной ситуации диады матери и ребенка. Этот творческий вклад ребенка – концепция Khan очень близка моему представлению о первично заданных функциях Я конструктивной агрессии и креативности – служит «nursing of self and object». Он, однако, получает неадекватный ответ со стороны) генерирующей перверсии матери и первичной группы, игнорируется или активно подавляется.
С ребенком обращаются не как с растущей личностью с собственными инициативами, его не принимают. Генерирующая перверсию мать видит в нем «вещь – творение» (Khan, 1968), которое ею идолизируется и либидинозно загружается. Интенсивная забота о физическом благополучии и чистоте ребенка носит безличный характер. Мать играет с идолизируемой «игрушкой».
Ребенок вынужден, чтобы не потерять жизненно важное эмоциональное внимание матери, отщеплять чувство своего тела от прочих областей Я (см. Greenacre, 1953b, 1959, 1960а). Он учится переносить это расщепление Я, которое делает для него возможным контакт с матерью, и интернализует представление о себе, в котором пассивно приспосабливается к интересам матери.
В эпидальной фазе, как замечает Khan (1968), матери начинают сознавать сексуальный характер своих отношений к ребенку. Они обычно резко отдаляются, подвергая ребенка «травме позднего расставания», которая с особой отчетливостью регистрируется относительно хорошо к этому времени развитым Я ребенка и переживается как угроза заброшенности с архаическим страхом уничтожения. Это ведет к реактивному усилению интернализованного идолизированного восприятия себя, тщательно скрываемого от окружающих. Результатом оказывается расщепление Я и интернализованный запрет идентичности, в котором я вижу центральную проблему реакции сексуальной перверсии.
За фасадом успешной социальной адаптации, связанной с часто блестящим формированием отдельных сфер и функций Я, мы находим архаичный страх идентичности. Сексуально перверсное поведение и проявляющееся в нем расщепление Я служит защитой от этого постоянно присутствующего страха и связанной с ним, ставшей деструктивной, агрессией. Во взаимодействии с каким-либо фетишем или партнером-сообщником перверсный человек пытается одновременно восстановить преэдипальную ситуацию жизни с матерью и экстернализировать связанный с отщеплением идентичности и поздним отделением от матери страх.
Я хотел бы проиллюстрировать это на ряде примеров:
1-й пример
50-летний больной основал в США университет средних размеров и в качестве президента привел его к научному успеху. Он был обаятельной личностью с интеллектуальными способностями и заслугами, выдающимся представителем своей специальности и ведущим членом пресвитерианской Церкви университетского городка. Он был женат и жил вместе с женой и четырьмя детьми, которых очень любил. Его профессия была связана со многими поездками, например, для участия в научных конгрессах или сбора средств для улучшения экономической базы университета.
Его поездки служили, однако, наряду с научно санкционированными целями, еще и другими, связанными с его перверсным Я. При «сборе средств» он проституировал со спонсорами. Так, он имел половые сношения с мультимиллионершей старше 70 лет, финансировавшей деятельность университета. Она напоминала ему его мать.
Эта связь стала в конце концов его перверсной потребностью, все более недоступной его контролю. Часто он, очнувшись с испугом, как из состояния сна, обнаруживал себя в ее постели. Эта ситуация стала для него угрожающей, когда он не смог уже разделять роли своего Я, до этого строго разделенные. Его партнерша настаивала на том, чтобы совместно появляться с ним в обществе, хотела, чтобы он был с ней все чаще – желание, которому он не имел сил противостоять. Когда наконец об этом узнала его жена, он оказался в состоянии глубокой депрессии и полностью лишился работоспособности – не мог, например, читать, что дополнительно угрожало потерей его научной идентичности. К этому добавилась полная бессонница, которую он пытался устранить все увеличивавшимися дозами седуксена, что привело его к зависимости от препарата.
2-й пример
Схожее сочетание зависимости от лекарств, алкоголизма и перверсной симптоматики вместе с тяжелейшими психосоматическими нарушениями – пациент страдал нефролитиазом и почечными коликами – я обнаружил у фетишиста, перверсно реагировавшего на туфли с пряжками.
Внутренние объекты этого пациента представляли инцестную и перверсную первичную группу. Мать была токсикоманка и алкоголичка, дядя – мультимиллионер – был абсолютным властителем семейного клана, отец жил в материальной зависимости от матери. Фетишем больного была бабушкина туфля с пряжкой, качаясь на которой он в раннем детстве испытал свое первое сексуальное возбуждение и которую что документировано анализом многих сновидений – воспринимал как половой член бабушки.
Оба пациента, проходившие после длительного стационирования у меня психотерапевтическое и психоаналитическое лечение в течение свыше пяти лет, обратились за психиатрической помощью, когда не стал срабатывать их защитный механизм расщепляющего Я разделения ролей на перверсное и социально адаптированное Я с изолированными друг от друга фасадами. Следующая за этим диффузия Я и идентичности вызвала панический страх, с проявлениями которого они обратились к врачу.
3-й пример
Другой пациент, который начал психотерапию в связи с мучительным чувством изоляции и симптоматической эритрофобией, часто демонстрировал в психотерапевтической ситуации симптом соскальзывания в диффузные состояния Я. С подросткового возраста он страдал навязчивой потребностью мочиться и испражняться в тайно купленные для этой цели резиновые пеленки, что сочеталось с мастурбацией. Он чувствовал сильное внутреннее облегчение состояния мучительного напряжения с одновременным чувством стыда и внутренней нечистоты.
На индивидуальной терапии он вспомнил, как он в раннем детстве часами безуспешно с ужасным страхом сидел в туалете, регулярно получая затем шлепок по ягодицам от матери, которая сама страдала запорами.
Внешне пациент выглядел безукоризненно, даже слишком опрятно. Его академические успехи находили всеобщее признание.
Резиновая пеленка как фетиш свидетельствует о том, что пациент пытался избежать взаимодействия в раннем детстве с эмоционально холодной и контролирующей матерью бегством во время, когда отношения с матерью были менее нарушенными, жесткими и требовательными. Контраст «нечистой» перверсии с фасадом чрезмерно опрятной внешности и социальной идентичности в обучении отчетливо демонстрирует расщепление Я, воспринимаемое в терапевтической ситуации как диффузия Я.
4-й пример
Расщепление Я демонстрировал также фетишист, который, по его собственным словам, использовал свои экскременты как объект, в который он онанировал, обнюхивал и съедал по кусочкам. Он был преуспевающим физиком и работал научным сотрудником в исследовательском институте. Свое расщепление Я он продолжал в терапии, где он вначале работал с двумя терапевтами. С одним терапевтом он говорил о своем перверсном Я и перверсном поведении, с другим – о своих невротических конфликтах (это представляет собой особый случай терапевтической техники).
Эти примеры, в которых перверсия сочетается с поверхностно успешной псевдонормальностью, демонстрируют, с моей точки зрения, что нельзя говорить о прямом социогенезе перверсии в смысле конфликта, следующего из господствующих сексуальных нравов. В анамнезе и лечении на первый план выступают скорее психогенные и психодинамические причины болезненного процесса. Решающей при этом является динамика преэдипальных отношений матери и ребенка.
Я хотел бы проиллюстрировать это на дальнейших примерах.
5-й пример
30-летний книготорговец, страдавший симптомом трансвестизма, обратился за помощью, когда его жена ожидала первого ребенка после семилетнего брака. Он радовался ребенку, но был очень озабочен, что тот также будет страдать этим заболеванием. Жена соглашалась выносить его перверсное поведение, воспринимавшееся им самим как неприемлемое и вызывающее отвращение. Она помогала ему при переодевании и макияже. Иногда оба выходили гулять как две подруги. Наряду с трансвестизмом он имел сильные мазохистские потребности, удовлетворявшиеся, когда жена била его плетью. Страх, что об этом станет известно, тянулся красной нитью через всю историю его жизни, которую он описал в начале терапии. Ребенком пациент хотел быть девочкой. Родители игнорировали его переодевания. В молитвах пациент горько жаловался на бесчувственность матери и испытывал сильный страх, что она может заметить эти его чувства. Позже он начал интенсивно изучать демонстрацию фокусов, искусство отвлекать внимание зрителей так, что они не замечают, что происходит в действительности. Он жил в мире фантазий, которые часто продолжались в его снах и где он исполнял одновременно множество ролей.
Он женился вскоре после того, как в возрасте 21 года покинул родительский дом, протестуя против постоянных вмешательств своей матери. С женой он жил замкнуто, ничем себя не проявляя.
Свое перверсное поведение пациент описывал следующим образом. Оно начиналось с ощущения, «как будто по звонку будильника внезапно во всем теле возникает нервное состояние, и тогда я должен это сделать». Переодевание и грим делались с перфекционистской тщательностью. В заключение он шел по отдаленным пустынным улицам, фантазируя при этом, что флиртует с заговаривающими с ним мужчинами. Возвращаясь домой, он онанировал перед зеркалом. Вначале он чувствовал после этого облегчение, затем возникало сильное чувство стыда и отвращения.
В своей профессиональной деятельности у него часто возникало ощущение одновременного функционирования во многих ролях с одновременным сторонним наблюдением за собой.
На одном из сеансов пациент рассказал следующий сон: «Воспоминание о сне очень неотчетливо. Я спасаюсь бегством в пустынную длинную улицу. Преследует меня я сам, переодетый в женскую одежду, с ужасным гримом и искаженным маскообразным лицом. У меня чувство, что случится нечто ужасное, если меня настигнет он (она). 2–3 раза маска оказывается совсем близко, как искаженный крупный план в кино. При этом у меня все время чувство, что это мать. Это звучит как фон всей сцены. Но не как помощь, а как ужас».
Этот сон в особенности отчетливо демонстрирует динамику перверсного расщепления Я. Перверсное Я, вытесняемая и олицетворенная в акте трансвестизма мать, преследует гиперадаптивное псевдонормальное Я, когда обе половины Я встречаются», «происходит нечто ужасное».
Тревожно воспринимаемая амбивалентность этой ситуации определяет также эдипальное взаимодействие пациента. Отец по большей части отсутствовал, мать, от которой пациент, как единственный ребенок, был в особенности зависим, без понимания относилась к играм сына, не давала им простора, постоянно стимулируя его поведение в направлении собственных потребностей.
Пациент чувствовал себя по отношению к этой отчетливо фаллически воспринимавшейся матери бессильным, обездвиженным и кастрированным. Амбивалентная реакция пациента проявлялась в двух рельефных тенденциях его поведения.
Он почти обсессивно старался быть дружелюбным, готовым помочь, терпимым и альтруистичным, как если бы обязан был постоянно поддерживать хорошее настроение у окружающих, усилие, в котором возвращалось подобострастное старание задобрить мать – в школе он всегда был лучшим учеником и общественником.
Наряду с этим была сильная тенденция наказать и разрушать себя самого.
Этот страх стал особенно сильным, когда его жена готовилась родить. Защищаясь от страха покинутости, пациент сильно идентифицировал себя со своей женой. Его интенсивный интерес к уходу за ребенком, появление которого он, с другой стороны, бессознательно воспринимал как экзистенциальную угрозу, обращает наше внимание на описанную Khan (1968, 1972) динамику перверсии, как постоянно повторяющуюся неудачную попытку объединить Я и объект в ситуации «nursing», т. е. взаимной заботы.
Сексуальное переодевание пациента служило также метафорическому изображению своей архаической потребности в эмоциональном обращении. С одной стороны, он мог идентифицировать себя с соблазняющей матерью и в фантазиях возбуждать желание мужчин, встречаемых на улице, с другой – он мог, разочаровывая своих фантазируемых обожателей, для которых оставался недоступным, активно проецировать вовне пассивно испытывавшееся в детстве разочарование и, тем самым, отражать свою собственную потребность. В последующем онанировании перед зеркалом он мог удовлетворять собственную потребность относительно интроецированного фантазируемого объекта любви, на что затем реагировал сильным чувством вины.
Здесь становится отчетливым, что перверсный акт инсценирует преэдипальные объектные отношения, в которых хрупкое Я смешивается с объектом через идентификацию и проекцию. Перверсный акт превращает при этом диффузное интрапсихическое состояние в межличностный процесс, который может наблюдаться и контролироваться.
При этом я хотел бы различать две клинические картины. В доброкачественной перверсии можно распознать характер постоянного поиска любимого объекта. Акт трансвестизма, например, в таких случаях удается, он возможен, или гомосексуальные партнерские отношения длятся долгое время. При злокачественной перверсии, напротив, деструктивный момент преобладает как относительно партнера-сообщника или фетиша, так и относительно собственной Самости, которая должна прогрессивно уничтожаться, чтобы освободить Я от интроецированного враждебного объекта.
Симптоматическим выражением этого может иногда стать «неудавшийся» трансвестизм. Трансвестит представляет себя как карикатуру матери, которая воспринимается преимущественно как разрушительная. Это иллюстрирует следующий пример.
6-й пример
Пациент, начавший терапию в связи с невыносимым чувством изоляции и утраты работоспособности, переодевался вечерами, когда в особенности остро чувствовал свое одиночество, используя печную сажу как тушь для ресниц, бесформенные накидки и платки, превращаясь в неприглядную женщину, бродя затем в таком виде по темным улицам. В ходе терапии он вспомнил, что 5-летним мальчиком потерял глаз в результате небрежности отца. В рождественский вечер тот грубым тоном потребовал, чтобы он вымыл руки; в спешке он наткнулся на гвоздь, которым была укреплена дверная ручка. Это повреждение вызвало впоследствии сильное чувство неполноценности, усилившееся за счет соперничества с не ставшей инвалидом и поэтому более любимой родителями сестрой. Вначале ее платья служили ему для изменения своей идентичности. Его трансвеститный образ представлял не сестру, объект зависти, или соблазняющую мать, а олицетворял холодную невнимательную мать в уродливом образе.


