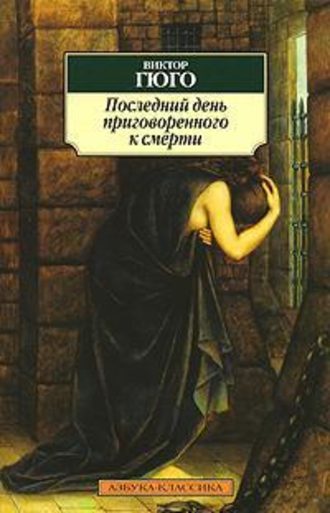
Виктор Мари Гюго
Последний день приговоренного к смерти
XLVI
Крошка моя Мари! Она возвращается к своим забавам. Из окна фиакра она смотрит на толпу и уже совсем не думает о чужом дяде.
Может быть, я успею написать несколько страничек для нее, чтобы она прочла их в свое время и через пятнадцать лет оплакала то, над чем не плакала сегодня.
Да, она от меня должна узнать мою историю, должна знать, почему имя, которое я завещаю ей, запятнано кровью.
XLVII
Моя история
Примечание издателя. До сих пор не удалось отыскать соответствующие страницы. По-видимому, как можно заключить из последующих, приговоренный не успел их написать. Эта мысль возникла у него слишком поздно.
XLVIII
Из комнаты в ратуше
Из ратуши!.. Итак, я здесь. Страшный путь пройден. Площадь там, внизу, и ненавистная толпа под окном вопит и ждет меня и хохочет.
Как ни старался я быть стойким и неуязвимым, силы мне изменили. Когда я увидел поверх голов, между двумя фонарями набережной, эти поднятые кверху красные руки с черным треугольников конце, силы мне изменили. Я попросил, чтобы мне дали возможность сделать последнее заявление. Меня отвели сюда и послали за одним из королевских прокуроров. Я жду его; как-никак – выигрыш времени.
Вот как это было.
Пробило три часа, и мне пришли сказать, что пора. Я задрожал так, словно последние шесть часов, шесть недель, шесть месяцев думал о чем-то другом. Меня это поразило как нечто неожиданное. Они заставили мен идти по их коридорам, спускаться по их лестницам. Они втолкнули меня через одну, потом вторую дверцу нижнего этажа в мрачное сводчатое тесное помещение, куда едва проникал свет дождливого, туманного дня. Посередине был поставлен стул. Мне велели сесть; я сел.
Возле двери и у стен стояли какие-то люди, кроме священника и жандармов, и еще в комнате находилось трое мужчин.
Первый, краснощекий, толстый, выше и старше остальных, был одет в сюртук и продавленную треуголку. Это был он.
Это был палач, слуга гильотины, а двое других его слуги.
Едва я сел, как те двое по-кошачьи подкрались мне сзади; я внезапно почувствовал холод стали в волосах и услышал лязганье ножниц.
Волосы мои, обстриженные кое-как, прядями падали мне на плечи, а мужчина в треуголке бережно смахивал их своей ручищей.
Кругом переговаривались вполголоса.
Снаружи слышался глухой гул, словно набегавший волнами. Я было подумал, что это река; но по взрывам смеха понял, что это толпа.
Молодой человек у окна, что-то отмечавший карандашом в записной книжке, спросил у одного из тюремщиков, как называется то, что происходит.
– Туалет, приговоренного. – ответил тюремщик.
Я понял, что завтра это будет описано в газетах.
Вдруг один из подручных стащил с меня куртку, а другой взял мои опущенные руки, отвел их за спину, я почувствовал, как вокруг моих запястий обвивается веревка. Тем временем второй снимал с меня галстук. Батистовая сорочка, – единственный клочок, уцелевший от того, кем я был прежде, – на миг привела его в замешательство; потом он принялся срезать с нее ворот.
От этой жуткой предусмотрительности, от прикосновения к шее холодной стали локти мои дернулись и приглушенный вопль вырвался у меня. Рука палача дрогнула.
– Простите, сударь! – сказал он. – Неужели я задел вас?
Палачи – люди обходительные.
А толпа снаружи ревела все громче.
Толстяк с прыщавым лицом предложил мне понюхать платок, смоченный уксусом.
– Благодарю вас, я чувствую себя хорошо, – ответил я, стараясь говорить твердым голосом.
Тогда один из подручных нагнулся и надел мне на ноги петлю из тонкой бечевки, стянув ее настолько, чтобы я мог делать мелкие шажки. Конец этой веревки он соединил с той, которой были связаны руки. Потом толстяк накинул мне на плечи куртку и связал рукава у подбородка.
Все, что полагалось сделать, было пока что сделано.
Тут ко мне приблизился священник с распятием.
– Идемте, сын мой, – сказал он.
Помощники палача подхватили меня под мышки. Я встал и пошел. Ноги у меня были как ватные и подгибались, словно в каждой было два колена.
В этот миг наружная дверь распахнулась. Бешеный рев, холодный воздух и дневной свет хлынули ко мне. Из-под темного свода я, сквозь сетку дождя, сразу увидел все: тысячеголовую орущую толпу, запрудившую большую лестницу Дворца правосудия; направо, в уровень со входом, ряд конных жандармов, – низенькая дверца позволяла мне видеть только лошадиные ноги и груди; напротив – взвод солдат в боевом порядке; налево – задняя стенка телеги с приставленной к ней крутой лесенкой. Страшная картина, и тюремная дверь была для нее достойной рамой.
Этой минуты я боялся и для нее берег все свои силы. Я прошел три шага и появился на пороге.
– Вот он! Вот! Выходит! Наконец-то! – завопила толпа.
И те, кто был поближе, захлопали в ладоши. При всей любви к королю его бы не встретили так восторженно.
Телега была самая обыкновенная, запряженная чахлой клячей, а на вознице был синий в красных разводах фартук, какие носят огородники в окрестностях Бисетра.
Толстяк в треуголке взошел первым.
– Здравствуйте, господин Сансон! – кричали ребятишки, взгромоздившиеся на решетку. За ним последовал один из подручных.
– Здорово, Вторник! – опять закричали ребятишки.
Оба они сели на переднюю скамейку.
Наступил мой черед. Я взошел довольно твердой поступью.
– Молодцом держится! – заметила женщина, стоявшая около жандармов.
Эта жестокая похвала придала мне силы. Священник сел рядом со мной. Меня посадили на заднюю скамейку, спиной к лошади. Такая заботливость привела меня в содрогание.
Они и здесь стараются щегольнуть человеколюбием. Мне захотелось посмотреть, что делается кругом. Жандармы впереди, жандармы позади, а дальше толпы, толпы и толпы; одни сплошные головы на площади.
Пикет конной жандармерии ожидал меня у ограды Дворца правосудия. Офицер скомандовал. Телега вместе с конвоем тронулась в путь, вой черни как будто подталкивал ее.
Мы выехали из ворот. В ту минуту, когда телега свернула к мосту Менял, площадь разразилась криками от мостовой до крыш, а набережные и мосты откликнулись так, что, казалось, вот-вот сотрясется земля.
На этом повороте конный пикет присоединился к конвою.
– Шапки долой! Шапки долой! – кричали тысячи голосов. Прямо как для короля.
Тут и я рассмеялся горьким смехом и сказал священнику:
– С них – шапки, с меня – голову.
Телега ехала шагом.
Набережная Цветов благоухала – сегодня базарный день. Продавщицы ради меня побросали свои букеты.
Напротив, немного подальше квадратной башни, образующей угол Дворца правосудия, расположены кабачки; верхние помещения их были заполнены счастливцами, получившими такие хорошие места. Особенно много было женщин. У кабатчиков сегодня удачный день.
Люди платили за столы, за стулья, за доски, за тележки. Все кругом ломилось от зрителей. Торговцы человеческой кровью кричали во всю глотку:
– Кому место?
Злоба против этой толпы овладела мной. Мне захотелось крикнуть:
– Кому уступить мое?
А телега все подвигалась. Позади нас толпа рассеивалась, и я помутившимся взглядом смотрел, как она собирается снова на дальнейших этапах моего пути.
При въезде на мост Менял я случайно посмотрел направо и на противоположном берегу заметил над домами черную башню, которая стояла одиноко, ощетинясь скульптурными украшениями, а на верхушке ее мне были видны в профиль два каменных чудовища. Сам не знаю, почему я спросил у священника, что это за башня.
– Святого Якова-на-Бойнях, – ответил вместо него палач.
Не могу постичь, каким образом, несмотря на туман и частый мутный дождь, заволакивавший воздух точно сеткой паутины, до мельчайших подробностей видел все, что происходило вокруг. И каждая подробность была мучительна по-своему. Есть переживания, для которых не хватает слов.
Около середины моста Менял, настолько запруженного толпой, что при всей его ширине мы едва плелись, мною овладел безудержный ужас. Я испугался, что упаду в обморок, – последний проблеск тщеславия! И постарался забыться, ни на что не смотреть, ни к чему не прислушиваться, кроме слов священника, которые едва долетали до меня сквозь шум и крик.
Я потянулся к распятию и приложился.
– Господи, смилуйся надо мной! – прошептал я, стараясь углубиться в молитву.
Но от каждого толчка телеги меня встряхивало на жестком сиденье. Потом вдруг я ощутил пронизывающий холод, одежда промокла на мне насквозь, дождь поливал мою остриженную голову.
– Вы дрожите от холода, сын мой? – спросил священник.
– Да, – ответил я.
Увы! Я дрожал не только от холода. Когда мы свернули с моста, какие-то женщины пожалели мою молодость.
Мы выехали на роковую набережную. Я уже почти ничего не видел и не слышал. Беспрерывные крики, бесчисленные головы в окнах, в дверях, на порогах лавок, на фонарных столбах, жестокое любопытство зевак; толпа, в которой все меня знают, а я не знаю никого; человеческие лица подо мной и вокруг меня. Я был как пьяный, как безумный, я застыл как в столбняке. Нестерпимое бремя – столько упорных, неотступных взглядов.
Я трясся на скамейке, не замечая ни священника, ни распятия.
В окружающем меня шуме я не отличал уже возгласов жалости от возгласов злорадства, смеха – от вздохов, слов – от гама; все сливалось в общий гул, от которого голова у меня гудела, как медный инструмент.
Я бессознательно пробегал глазами вывески на лавках.
Один раз странное любопытство побудило меня обернуться и посмотреть на то, к чему я приближался. Это было последнее дерзание рассудка. Но тело не повиновалось, шея у меня точно окостенела, точно отмерла заранее.
Мне только удалось увидеть сбоку, слева на том берегу одну из башен Собора Богоматери, ту, на которой флаг, – вторая скрыта за ней. Там было много народа – оттуда, верно, все видно.
А телега все подвигалась и подвигалась, лавки проплывали мимо, вывески, писаные, рисованные, золоченые, сменяли одна другую, чернь зубоскалила и топталась в грязи, и я подчинялся всему, как спящие – воле сновидения.
Вдруг ряд лавок, по которому я скользил взглядом, оборвался на углу какой-то площади; рев толпы стал еще громче, пронзительнее, восторженнее; телега неожиданно остановилась, и я едва не упал ничком на дно. Священник удержал меня.
– Мужайтесь! – шепнул он.
К задней стенке телеги приставили лесенку; священник помог мне, я спустился, сделал шаг, повернулся, чтобы сделать второй, и не мог. Между двумя фонарями набережной я увидел страшную штуку.
Нет, это был не сон!
Я зашатался, словно мне уже нанесли удар.
– Мне надо сделать последнее заявление, – слабым голосом выкрикнул я.
Меня привели сюда.
Я попросил, чтобы мне разрешили написать мою последнюю волю. Мне развязали руки, но веревка тут; наготове, как и остальное там, внизу.
XLIX
Какое-то должностное лицо, не то судья, не то пристав, только что приходил ко мне. Я просил у него помилования, сложив руки, как на молитве, и ползая перед ним на коленях. А он с саркастической усмешкой заметил, что ради этого не стоило его звать.
– Добейтесь, добейтесь помилования! – твердил я. – Или, ради Христа, подождите хоть пять минут!
Кто знает? Помилование еще может прийти! Слишком страшно так умирать в мои годы! Не раз случалось, что помилование приходило в последнюю минуту. А кого ж и миловать, сударь, если не меня?
Безжалостный палач! Он подошел к судье и сказал, что казнь должна состояться в определенный час и час этот приближается, что он отвечает за все, а вдобавок идет дождь и механизм может заржаветь.
– Ради Христа, подождите еще минутку, пока придет помилование, а то я не дамся, я буду кусаться!
Судья и палач вышли. Я один – один с двумя жандармами.
О эта гнусная чернь! Она воет, как гиена. А вдруг я ускользну от нее? Вдруг я буду спасен? Помилован?.. Не могут меня не помиловать!
Проклятые! Я слышу на лестнице их шаги…
Четыре часа.
1829 г.







