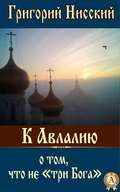Григорий Нисский Святитель
Опровержение Евномия
Но подробное описание всего этого потребовало бы какого-либо большего сочинения, многого времени и труда особого рода. С другой стороны, поелику тогдашние бедствия известны всем, то ничего не прибавится настоящему слову точным изложением сих несчастий в письменах. В повествовании о них есть и другая невыгода; излагающему по порядку историю сих горестных событий необходимо сделать некое упоминание и об учиненном с нашей стороны. Ибо если в сих борьбах за благочестие и сделано нами что-либо такое, что при повествовании может возбудить соревнование, то мудрость повелевает предоставить сие ближним, по сказанному: «да хвалит тя искренний, а не твоя уста» (Притч.27:2). Сего-то не уразумев, проникающий во все большую часть своего сочинения занял велеречием о себе.
Поэтому все сему подобное отлагая в сторону, в точности изложу дела боязливости нашего учителя. Противостоял ему как сопротивник сам царь; а прислуживал стремлениям царя начальствующий по нем во всем царстве, и содействующими таковому пожеланию служили все окружающие царя. Для точнейшего испытания и доказательства в подвижнике непоколебимого убеждения присовокупи к этому и самое время. Какое же тогда было время?
Царь отправился из Константинополя на восток, превозносясь мысленно недавними своими успехами над варварами и не предполагая, чтобы стало что-либо противиться его желаниям. Предшествовал же ему в этом пути епарх, вместо какого-либо иного необходимого, для начальства делающий такое распоряжение, что бы ни одному держащемуся веры не позволялось оставаться на своем месте, но все таковые отовсюду были изгоняемы, а на место их вводимы были какие-либо другие самозваные, к оскорблению божественного домостроительства. Посему, когда с таким решением, подобно какой-то грозной туче, державная власть двинулась из Пропонтиды против церквей, и внезапно Вифиния опустела, а Галатия с большим удобством увлечена, и все на пути уступали им в образе мыслей, а по порядку и наша уже страна подверглась этой беде; что делает тогда великий Василий, этот, как говорит Евномий, боязливый, не смелый, робеющий страшного, вверяющий спасение свое скрытой хижине? Приведен ли в ужас постигшим бедствием?
Страдание ли постигнутых им прежде приемлет себе в советника для собственной своей безопасности? Соглашается ли с советующим уступить ненадолго стремительности зла, и не повергать себя в очевидную опасность сношением с людьми, привыкшими к кровопролитию? Или всякое превосходство слов, всякая высота мыслей и речений изобличит себя в том, что она ниже действительности? Как изобразит кто словом столь великое презрение страхований? Как представит кто взору эту новую борьбу, о которой справедливо может иной сказать, что ведут ее не люди и не с людьми, но что добродетель и дерзновение христианина противоборствуют в ней убийственному владычеству.
Предварив прибытие царя, призвал Василия к себе епарх, начальственную власть, и без того страшную по величию оной, еще более страшною сделав жестокостью наказаний, после тех плачевных опытов, какие совершил в Вифинии. Когда с обычною легкостью без труда покорены были галаты, епарх думал, что и у нас встретит готовность на все, что ему угодно. Предначатием же строгости в делах служила речь, смешанная вместе из угроз и обещаний.
Епарх говорил, что Василий, если будет покорен, продолжит пользоваться и честью от царя и начальством в церкви, а если воспротивится, потерпит все, чего похощет раздраженная душа, к власти присовокупив и силу. Таковы были их поступки.
А наш столько далек был от того, чтобы прийти в какой-либо ужас от видимого или сказанного, что, подобно некоему врачу или доброму советнику, призванному исправить ошибки, приказывал им раскаяться в том, на что отваживались, и впредь прекратить убийство рабов Господних; потому что пекущимся об одном царствии Божием и о бессмертной державе могут они не более как только примыслить что-либо; но не в силах сделать зло, не в состоянии изобрести ничего такого, что, будучи сказано или сделано, опечалило бы христианина. Опись имения, говорил он, не коснется полагающего все стяжания в одной вере; изгнание не устрашит с одинаковым расположением обходящего всю землю и взирающего на всякую страну по кратковременности жительства, как на чуждую, и поелику вся тварь сослужебна, – на всякий град, как на свой. Подвергнуться же ударам или трудам, или смерти, когда нужно то будет за истину, – не возбудит страха и в женщинах, но для всех христиан есть высший предел блаженства в чаянии оного претерпеть что-либо невыносимое. Одно только печалит, присовокупил он, что одна в природе смерть, и не находит он никакого способа, чтобы можно было многими смертями подвизаться за истину.
Поелику же Василий в этом случае поставил себя выше оных угроз и всю надменность оного властительства презрел, как ничто, то, как на зрелище с переменою лиц вместо одних являются внезапно другие, так и здесь горечь угроз преобразилась в ласкательство, грозный дотоле и ужасающий своею гордынею епарх, переменив речь на скромную и снисходительную, говорит: «А ты не почитай маловажным, что великий царь вступает в среду твоего народа, напротив того, согласись именоваться и его учителем, и не противься изволению его. Угодно же ему, чтобы сие последовало по исключении из письменного изложения веры одной малости – речения «единосущный». Но учитель отвечает опять: царю стать членом церкви – это весьма важно, ибо, говорит он, великое дело – спасение души, не потому, что это – царь, но потому что вообще он человек. Но, чтобы в изложении веры сделать исключение или прибавление, столько далек он от сего, что не может изменить даже порядка в написанном. Вот что этот робкий, малодушный, приходивший в ужас при скрипе двери, изрек словом столько высокому чином и сказанное подтвердил делами! Так остановил и отвратил он собою, как бы поток какой разливающийся по владениям, ниспровержение церквей, один возымев достаточную силу против удара зол, и подобно какой-то великой и непоколебимой скале в море вместо многих л огромных волн сокрушив собою приращение бедствий.
Но сим не кончилась его борьба. Напротив того, еще предпринимает сделать опыт сам царь, негодуя, что в первое нападение дело кончилось не в его удовольствие. Посему, как некогда ассирийский царь в Иерусалиме разорение израильского храма велел произвести повару Навузардану, так и этот некоему Димосфену, приставленному к приготовлению яств, и главному повару, как бесстыднейшему других поручив сию службу, думал, что одержит верх во всяком предприятии. Посему, так как из всего делает он смесь, и какой-то богоборец из Иллирика, с посланием в руках, собирает на это всех вельмож, и Модест снова воспламеняется гневом с сильнейшею прежнего стремительностью; то все подвиглись гневом царевым, негодуя вместе с огорченным царем, и угождая раздражению власти, и все поражаются грозою ожидаемого. Ибо опять этот епарх; опять сильнейшие прежних восстания страхований, прибавления угроз, чувствительнейшее раздражение, плачевное зрелище судилища, глашатаи, докладчики, жезлоносцы, загородки, занавесы, все, чем легко приводятся в ужас мысли и у самых приготовленных. И снова подвижник Божий во вторичной борьбе и превосходит славу, приобретенную в предшествовавшей. Если требуешь доказательств, то смотри на самые дела.
Было ли в церквах какое место, не разоренное тогдашним переворотом?
Осталось ли какое племя не испытавшим еретического восстания? Кто из уважаемых в церквах не был от влечен от трудов? Какой народ избежал такого насилия? Возьмем ли всю Сирию, средоречие даже до варварских пределов: Финикию, Палестину, Аравию, Египет и Ливийские племена до самого конца известной нам вселенной – и всех обитающих там: понтийцев, киликийцев, ликиян, лидяь, писидиян, памфилиян, карийцев, жителей Геллеспонта, островитян до самой Пропонтиды, и всех населяющих Фракию, куда только простиралась Фракия, и окрестные племена до самого Истра; что из всего этого осталось в своем виде, исключая разве то одно, что прежде еще одержимо было таковым злом? Но из всех народов один каппадокийский не ощутил общего бедствия церквей; его спас от искушений великий наш защитник.
Таковы последствия робости нашего учителя! Таковы дела приходившего в ужас от трудов более тяжких! Не у жалких старух снискал он себе славу, не о том старался, чтоб обмануть женщин, легко доступных всякому обману, не почитал за великое возбудить к себе удивление в людях предосудительных и развратных; но делами доказал душевную крепость, постоянство, мужество и благородство в образе мыслей. Его заслуги – спасение всего отечества, мир нашей церкви, образец всего доброго для живущих добродетельно, низложение противников, защита веры, ограждение немощных, поддержка усердных, – все, что признается у нас лучшим. При сих только повествованиях и слух, и зрение приводятся в согласие делами. Ибо здесь одно и то же – и словом повествовать о том, что прекрасно, и на деле показывать свидетельствуемое словами, а в том и другом достоверным делать одно другим, память видимым, а дела повествуемым.
13. Но не знаю, как на столько удалилось слово от предположенного, обращаясь к каждой хуле, высказанной клеветником. Впрочем Евномию немалая выгода – это замедление слова на подобных предметах; обличение людских неправд препятствует слову поступить к существеннейшему. Как судимого за убийство бесполезно преследовать за опрометчивость в словах, потому что обличенного убийства достаточно к произнесению смертного приговора, хотя убийца не обличается с тем вместе ни в какой опрометчивости слов, так, кажется мне, хорошо будет в обличении Евномия представить только его нечестие, а злословие против нас отложить в сторону. Ибо явно, что, с обнаружением зломыслия в важнейшем и существенном, обличается вместе и все прочее, как возможное для него, хотя и не будем в точности говорить обо всем подробно. Итак, главное, к чему стремится он и в прежнем своем слове, и в том, которое разбираем теперь, есть хула на догмат благочестия; все же старание прилагает совершенно извратить, изгнать, уничтожить благочестивые понятия о единородном Боге и о Святом Духе. Посему, чтобы умствования его о догматах истины оказались наиболее лживыми и несостоятельными, сперва предложу буквально сказанное о них Евномием, а потом, возвратясь опять к сказанному, исследую каждое изречение отдельно.
«Все наше догматическое учение ограничивается превысшею и в самом собственном смысле так называемою сущностью, еще тою, которая от нее существует, после же нее первенствует над всеми иными, наконец, третью, которая не состоит в одном ряду ни с одною из поименованных, но подчинена одной как причине, а другой, как действованию, которым пришла в бытие; без сомнения же, для восполнения всего учения берутся вместе и действования последующие за сущностями и сродные им именования. Еще же, поелику каждая из сих сущностей, отдельно взятая проста и в собственном своем достоинстве и есть, и умопредставляется совершенно одна, а действования определяются делами, и дела измеряются действованиями действующих, то, по всей необходимости, за каждой из сущностей последующие действования одни меньше, другие больше, одни состоят в первом, другие во втором ряду, и вообще говоря, доходят до такой разности, до какой могут доходить дела; потому что не позволительно назвать одним и тем же деиствование, которым сотворил ангелов или звезды, или небо, или человека; но, сколько одни дела превосходнее и досточестнее других, столько и деиствование выше другого деиствования, как скажет иной благочестиво рассуждающий; так как одни и те же деиствования производят тождество в делах, а разные дела указывают и на разность деиствовании. Поелику же сие действительно так, и взаимным отношением одного к другому соблюдается непременная связь, то производящим исследование в сродном вещам порядке надлежит не смешивать всего вместе, усиливаясь слить это; и если поднят будет спор о сущности, то из первых и непосредственно принадлежащих сущностям деиствовании производить удостоверение в доказываемом и разрешение спорного; а при разрешении сомнения о действованиях из сущностей самым приличным и для всех полезным почитать поступление от первых ко вторым».
14. Итак, вот хитросплетение хулы! Истинный же Бог наш, Сын истинного Бога, водительством Святаго Духа да направит слово к истине. Будем опять повторять сказанное по порядку. Евномий говорит, что «догматическое его учение ограничивается превысшей и в самом собственном смысле так называемой сущностью, еще тою, которая от нее существует, после же нее первенствует над всеми иными, наконец, третьей, которая не состоит в одном ряду ни с одною из поименованных, но подчинена одной, как причине, а другой – как действованию». Итак, первое злоухищрение в книге есть следующее: Евномий, обещая изложить нам таинственный догмат, как бы исправляя евангельские речения, не употребляет тех именований, в которых Господь предал нам таинство сие в тайноводстве веры, напротив того, умолчав имя Отца и Сына и Святаго Духа, вместо Отца именует какую-то превысшую и в самом собственном смысле именуемую так сущность, вместо Сына – сущность, которая от первой существует, после же нее первенствует над иными, а вместо Святаго Духа – сущность, которая не состоит в одном ряду ни с одною из поименованных. Но если бы так выразиться сообразнее было с делом; то Истина, без сомнения, не затруднились бы в изобретении сих слов; не затруднилась бы, конечно, и приявшие потом на себя проповедь таинства, и «исперва самовидцы и слуги бывшии Словесе» (Лк.1:2), а после них целую вселенную наполнившие евангельскими догматами, и опять после сего по временам восстававшие недоумения о догмате, разбиравшие на общем соборе, записанные предания которых всегда сохраняются в церквах. Если бы так надлежало выражаться, то не было бы у них и упоминания об Отце и Сыне и Святом Духе. Если совершенно благочестиво или безопасно речения веры заменить этою новизною, то значит, что невежды, не оглашенные в таинствах, не слыхавшие именований, как выражается Евномий, сродных, были те, которые и не умели, и не хотели собственные свои понятия сделать предпочтительнейшими именований, преданных нам в Божественном слове?
15. Но всем, думаю, явна причина этого составления новых имен. Ибо всякий человек, услышав название Отца и Сына, тотчас из самих имен познает свойственное им и естественное одного к другому отношение; потому что из сих названий само собою разъясняется сродство естества. Посему, чтобы не было сие разумеемо об Отце и единородном Сыне, скрадывает через это у слушателей то понятие взаимного свойства, которое с именами само собою входит в мысль; и, отложив в сторону речения богодухновенные, в изложении догмата пользуется речениями, придуманными к вреду истины.
Но прекрасно говорит Евномий следующее: в сем заключается догматическое учение не вселенской, но нашей церкви. Всякому же, у кого есть ум, легко разуметь нечестие сказанного. Но, может быть, не небла-говременно будет подробно исследовать в слове, с каким намерением одной сущности Отца Евномий приписывает, что она есть превысшая и в самом собственном смысле так именуемая, ни Сыну, ни Святому Духу не дозволяя быть высшею и собственно так называемою сущностью. Ибо думаю, что в этом видно старание совершенно отрицать по сущности Единородного и Духа, и Евномий таким ухищренным словосоставлением неприметно ведет к сему именно, что существуют Они только по видимому и по имени; истинное же исповедание Их ипостаси таковым построением речи отвергает; а что таков оборот речи, без труда приметит, кто ненадолго остановится на Евномиевом слове. Кто признает, что Единородный и Дух Святый истинно существуют по собственной Своей ипостаси, тому не свойственно много толковать о признании имен, которыми, думает он, должно чествовать сущего над всеми Бога; ибо крайнюю означало бы простоту соглашаться в деле и привязчиво спорить о словах. А теперь об одной сущности Отца засвидетельствовав, что она высочайшая и в самом собственном смысле так именуемая, умолчанием о прочих приводит к заключению, что они не в собственном смысле существуют.
Ибо как сказать, что существует истинно, о чем не засвидетельствовано, что существует в собственном смысле? О чем не признано, что оно наименовано в собственном смысле, тому необходимо придать противоположное именование; и что не в собственном смысле, то, без сомнения, не действительно таково.
Посему утверждаемое о чем-либо, что существует не в собственном смысле, делается доказательством совершенного несуществования; сие то, вероятно, имея в виду, Евномий вводит эти новые именования в своем догмате. Ибо никто, конечно, не скажет, что Евномий по недоразумению впал в необдуманное предположение и высшим определяет место, находящееся вверху, и Отцу как бы отделяет высокую какую-то стражбу, а Сына помещает в местах низменных. Ибо не найдется такого ребенка по уму, чтобы в рассуждении духовного и бесплотного естества представлял себе разность по месту; потому что телам свойственно положение на месте; а духовное и невещественное по естеству признается далеким от понятия о месте. Посему, какая же причина сущности одного Отца называться превысшею? Ибо не легко кому-либо представить, будто бы по какому-то невежеству в эти мысли вовлечен был тот, кто во многом, чем выказывает себя, принимает вид мудреца, и, как выражает божественное Писание, мудрится «излишше» (Еккл.7:17).
Но не скажет он, будто бы наименование высшею показывает в сущности превосходство силы или благости, или другого чего подобного; ибо всякому (не говорим о хвалящихся превосходством мудрости) известно и то, что не имеет недостатка в совершенной благости и силе и во всем подобном Ипостась Единородного и Святого Духа; потому что всякое благо, поколику не допускает оно противоположного, не имеет предела благости, ограничивается же обыкновенно одними противоположностями, как можно это видеть в отдельно взятых примерах: силе конец, как скоро место ее заступает немощь; жизнь ограничивается смертью; свету предел – тьма; и кратко сказать, всякое отдельно взятое благо прекращается противоположным ему. Поэтому если Евномий предполагает, что естество Единородного и Духа удобопревратно в худшее, то справедливо умаляет понятие о благости Их, так как могут Они быть увлечены и противоположным. А если божественное и неизменяемое естество не допускает до Себя ничего худшего (а сие признается самими врагами), то, без сомнения, умопредставляется Оно неопределимым в рассуждении добра; а неопределимое есть одно и то же с беспредельным. В беспредельном же и неопределимом представлять увеличение и уменьшение – крайне неразумно. Ибо как сохранится понятие беспредельности, если о беспредельном будем утверждать, что оно бывает больше и меньше? Большее познаем из взаимного сравнения пределов; а у чего нет пределов, в том как возможет кто представить избыток? Или Евномий, представляя себе не это, а некое преимущество по времени, понятие большего придает тому, что старше по древности, и по сей причине одну сущность Отца называет превысшею?
Итак, пусть скажет Евномий, чем измерил это большее в жизни Отца, когда не представляется никакого временного расстояния прежде ипостаси Единородного?
Но если бы и было это расстояние (пусть сказано будет сие пока предположительно), сущность, по времени предшествующая той, которая пришла в бытие после, какое преимущество имеет в бытии (разумею относительно к самому понятию бытия), чтобы одну именовать превысшею и в собственном смысле так именуемою, а о другой утверждать, что она не такова?
Ибо у предшествовавшей в сравнении с младшею, хотя время жизни больше, сущность однако же от этого ни больше, ни меньше. Более же ясным соделается это из примеров. В отношении к сущности меньше ли Авраама имел через четырнадцать родов явившийся на свет Давид? Изменилось ли сколько-нибудь в нем человечество? Меньше ли был человеком Давид, потому что по времени жил позднее Авраама? И кто столько тупоумен, чтобы мог сказать это? Ибо понятие сущности, нимало не изменяемое с продолжением времени в отношении к обоим одно. И никто не скажет, что один в большей мере человек, потому что предшествовал по времени, а другой меньше причастен человеческого естества, потому что вступил в жизнь после других, как будто или растрачено естество предшественниками, или время истощило его силу в живших прежде. Ибо не времени принадлежит определять каждому меру естества; напротив того, естество пребывает само по себе, соблюдая себя посредством появляющихся вновь; а время течет собственным своим чередом, или содержа в себе, или минуя, естество постоянное, непреложное, пребывающее в собственных своих пределах. Посему и тогда не докажут, что у одного отца в собственном смысле превысшая мера сущности, если бы было допущено, что по времени имеет Он больше, как предположило слово; а без всякой разности в старшинстве времени как представит кто-либо подобное нечто о естестве предвечном? Поелику всякое измеряемое расстояние открывается в том, что ниже естества Божия, то какое остается основание у пред-приемлющих довременную и непостижимую сущность различать по разности понятий: выше и ниже?
Но никакого нет сомнения в том, что защитой иудейского догмата служит утверждаемое сими, доказывающими существование единой сущности Отца (которой одной решительно приписывают они бытие в собственном смысле), а сущность Сына и Духа полагающими в числе несуществующих; потому, что всему не в собственном смысле сущему приписывается бытие только на словах, по обычному неправильному словоупотреблению; как и человеком называется не уподобительно показываемый в изображении; напротив того, в собственном смысле называемый сим именем есть не подобие человека, но первообраз подобия. А изображение по имени только человек, и не может поэтому в собственном смысле называться тем, чем называется; так как по естеству оно не то, чем именуется. Так и здесь, если сущность одного Отца называется в собственном смысле, а сущность Сына и Духа не в собственном, что означается сим? Не явное ли это отрицание спасительной проповеди? Итак, пусть бегут опять от церкви в иудейские синагоги, не уступая Сыну бытия в собственном смысле и тем доказывая, что вовсе не имеет Он бытия; потому что недействительное одно и то же с несуществующим.
А поелику Евномию хотелось бы в подобных вещах быть мудрым, и презирает он тех, которые предпринимают писать без логической строгости́ то пусть скажет нам презренным: в какой мудрости почерпнул он познание о большем и меньшем относительно к сущности? Какая причина установила такую разность, что какая-нибудь сущность больше другой сущности по самому, разумею, значению сего слова: «сущность»? Ибо пусть не представляет нам тех разностей в качествах, или в отличительных свойствах, какие по закону мышления понимаем как принадлежности сущности, составляющие нечто иное с подлежащим. Ибо не разности испарений, или цветов, или тяжести, или силы., или достоинства., или поведения и нрава, или чего-либо иного усматриваемого в теле и душе, предлагается теперь исследовать; но разумею самое подлежащее, чему в собственном смысле придается наименование: сущность; о сем спрашивается: точно ли какая-либо сущность имеет с другою разность в большей мере бытия? Но доныне еще не слышали мы, чтобы из двух существ, признаваемых имеющими бытие, пока оба существуют, в одном бытие было в большей, а в другом в меньшей мере; потому что и то и другое равно имеет бытие, пока пребывает тем, что оно есть, и, по сказанному, нет причины к предпочтительнейшему или продолжительнейшему бытию в чем-либо одном.
Посему, если вовсе не позволяет Евномий представлять себе Единородного имеющим сущность (ибо на это, кажется, поползается тайно речь его); то не приписывающий Ему бытия в собственном смысле, пусть, рассуждая о Нем, не уступает Ему и меньшего. Если же Сына, как ни есть состоящего в бытии, исповедует силою самосущею (об этом не было у нас еще спора); то почему опять отъемлет данное, доказывая, что Тот, чье бытие он исповедал, имеет бытие не в собственном смысле? А это значит то же, как было сказано, что и вовсе не быть. Как невозможно быть человеком тому, к кому совершенно неприложимо соответственное сему имени понятие; и у кого недостаток отличительных свойств, у того отъемлется целое понятие сущности; так и о каждой вещи, о которой засвидетельствовано, что имеет бытие несовершенно и не в собственном смысле, частное признание бытия не заключает в себе никакого доказательства о бытии ипос-тасном; напротив того, указание на бытие несовершенное доказывает всецелое несуществование подлежащего.
Посему, если здравомыслен, то пусть обратится к благочестивому разумению, изъяв из догмата понятие о меньшей и не собственно так называемой сущности Единородного и Святаго Духа. Если же решился непременно нечествовать (и не знаю, почему же ему хочется Творцу своему, Богу и благодетелю воздать хулою); то да потерпит наказание за мнение о своей учености, будто бы значит он нечто, по невежеству подчинив одну сущность другой, утверждая, что, но неоткрытому еще закону, одна сущность выше, другая ниже, свидетельствуя, что одна в собственном смысле, а другая не в собственном так называется. Ибо и из философствовавших вне веры не знали мы ни одного, кто предавался бы сему бреду; потому что такое мудрование не согласно ни с богодухновенными изречениями, ни с общими понятиями.
Посему цель измышления сих именований достаточно, думаю, объяснена сказанным, а именно, что речения сии предварительно полагает Евномий как бы в убежище и в основание всего своего злого умысла касательно догмата, чтобы, приготовляя ум, представлять себе одну только в самом собственном и высшем смысле сущность, без труда решить о других, как об умопредставляемых в смысле низшем и не собственном. Наипаче же показывает это в последующем, где, излагая свои мнения о Сыне и о Святом Духе, не употребляет сих речений, чтобы, как сказал я прежде, сими наименованиями невольно не показать свойства в их естестве; но делает безымянное о них упоминание сей поучающий, что «от сродных имен и речений должно возводить разумение слушающих». Но какое имя сроднее употребленного самою Истиною? Евномий же учит вопреки Евангелию, именуя не Сына, но Сущность от высшей происходящую и после оной перед всеми существами первенствующую. А что говорится это к извращению благочестивого понятия об Единородном, еще более обнаружится сие из остального Евномиева рассуждения. Но поелику в сказанном у него, по-видимому, соблюдается середина, так что и не утверждающий о Христе ничего нечестивого мог бы употребить иногда сии речения; то по сей причине и я не коснусь теперь учения о Господе, чтобы сберечь место опровержению самых явных на Него хулений; но по мере сил моих исследую учение Евномия о Святом Духе, потому что явную и ничем не прикрытую произносит о Нем хулу, говоря, что Дух не равночестен Отцу и Сыну, но подчинен Тому и Другому.
16. Посему вникнем сперва, какое значение слова «подчинение», и в каких случаях божественное Писание употребляет такое речение. Почтив человека тем, что создан по образу Сотворившего, Создатель Бог подчинил ему всякое неразумное естество, как воскликнул великий Давид, изображая благодать сию в песнопениях. Ибо говорит: «вся покорил еси под нозе его» (Пс.8:7), и поименно упоминает о подчиненных. Но в Божественном Писании еще и иное означается словом «подчинение», ибо Давид же, причину успехов своих в бранях восписуя Богу всяческих, говорит: «Покори люди нам и языки под ноги наша» (Пс.46:4), и еще: «покоривый люди под мя» (Пс.17:48). И в божественных Писаниях часто можно находить слово сие означающим владычество над сопротивным. Ибо изречение Апостола о будущем напоследок подчинении всех людей Единородному и через Него Отцу (1Кор.15:28), где он в глубине премудрости говорит, что сам «ходатай Бога и человеков» (1Тим.2:5) подчинится Отцу (сим подчинением Отцу Сына, соделавшегося причастным человечеству, давая разуметь покорность всех людей), как требующее большего и много труднейшего исследования, оставлю на время. Но в местах ясных, по которым нет никакого сомнения о значении слова «подчинение», в каком смысле утверждается, что сущность Духа подчинена сущности Сына и Отца? В том ли, в каком Сын подчиняется Отцу по разумению Апостола? Но поэтому Дух поставляется в едином чине с Сыном, а не подчиняется Ему, если только подчиненных два лица. Или не в этом смысле? Посему в каком же ином, кроме того, в котором, как научил нас псалом, естеству разумному подчинено неразумное? Следовательно, столько отличны, сколько естество неразумных животных отлично от естества человеческого. Но, может быть, Евномий отвергнет и это понятие? Следовательно, придет к остальному значению, – что естество, противостоявшее и противоборствовавшее прежде, после того сильною необходимостью вынуждено поклониться под власть воспреобладавшего.
Пусть из сказанного изберет, что угодно; но не знаю, что именно избрав, избежит неминуемого осуждения в хуле: тогда ли, когда скажет, что наравне с бессловесными подчинен Дух, как человеку подчинены рыбы, птицы и овцы; или когда, как отложившегося, пленником приведет к преизбыточествующему силою? Или не согласится ни на одно из сих речений, скажет же, что слово «подчинение» употребил не по понятию, усвоенному Писанием, но в другом значении называет Духа подчиненным Отцу и Сыну? Какое же это значение?
Или тем самым, что Дух есть третий в порядке, какой ученикам передан Господом. Писание узаконяет подчинять, а не в один ставить ряд? Поэтому на том же основании пусть и Отца подчинит Единородному, потому что божественное Писание часто, предпоставив имя Господа, на втором месте делает упоминание о сущем над всеми Боге. «Аз и Отец», говорит Господь (Ин. 10:30), предпоставляя Свое имя. И еще: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любы Бога» (2Кор.13:13); и тщательно ищущим свидетельств в Писании можно собрать тысячи таких мест, каково, например, следующее: «Разделения же дарований суть, а тойжде Дух: И разделения служений суть, а тойжде Господь. И разделения действ суть, а тойжде есть Бог» (1Кор.12:4–6), так что на этом основании пусть Духу и Сыну подчинен будет и Сый над всеми Бог, упомянутый Павлом на третьем месте. Но и ныне не слыхали мы еще этой мудрости, которая называемое в каком-либо ряду вторым или третьим низводит в чин подвластного и подчиненного. Евномию только угодно доказывать, что известный по преданию порядок лиц указывает на преимущества и низшие степени достоинств и естеств; ибо он утверждает, что порядок мест служит указанием инаковости естеств, не знаю откуда заимствовав такое представление и какою необходимостью доведенный до сего предположения. Ибо численный порядок не производит разности естеств, напротив того, исчисляемое, каково по естеству, таким и пребывает само в себе, будет ли оно исчисляемо или нет. Число есть знак, дающий знать количество вещей; и во второй ряд низводить не всегда непременно то, что ниже по достоинству естества, но по произволу счисляющих приводит только в ряд вещи, обозначаемые числом. «Павел и Силуан и Тимофей» (1Сол.1:1) – здесь упомянуты три лица по воле упомянувшего; показывает ли же число, что Силуан, поставленный вторым после Павла, есть нечто иное, а не человек?