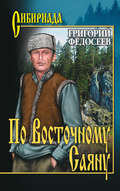Григорий Федосеев
Смерть меня подождет
Неожиданная встреча
На севере по вершинам заснеженных гор плывет отсвет заката, а над головою клубятся легкие облачка, пронизанные последними лучами солнца. Меркнет долгий летний вечер. Мир кажется необыкновенно ласковым, безмятежным. И твои мысли спешат вперед, как парусник, гонимый легким ветерком по морской бегучей зыби.
Река взбивает на поворотах пену вешних вод. Мимо нас плывет мелкий наносник и лесной хлам. У скалы его встречает шумная компания куличков, наших береговых соседей. Поодиночке или парами, они усаживаются на влекомые водой плавники, как будто отправляются в далекое путешествие, и что-то выкрикивают скороговоркой:
– Тили-ти-ти, тили-ти-ти… (Вероятно: «Прощайте, прощайте…»)
Течение проносит их мимо, за поворот. Иногда на плавнике сидят трясогузки. Ну а эти куда, длиннохвостые домоседы? Скорее всего они плывут в разведку – разгадать странное для них явление: сколько бы куличков ни отправлялось по реке вниз, число их на берегу не уменьшается.
А ларчик просто открывается: как только кулички скрывались за поворотом и из виду терялся родной берег, у них пропадало желание к путешествию. Они, молча перелетев на противоположную сторону реки, тайком возвращались к скале и этим сбивали с толку доверчивых трясогузок.
Вода в Зее заметно посветлела, открывая любопытному глазу свои тайны. У самого берега, изгибаясь между камнями, тянется живая темная полоска. Даже незначительная волна, набегающая на гальку, разрывает ее на несколько частей, и тогда сотни серебристых искр на мгновение вспыхивают в воде. Но не успеет волна откачнуться от берега, как темная полоска снова сомкнется и непрерывной тетивой тянется вверх против течения.
Это мальки – потомство тайменей, ленков, хариусов, сигов. Сколько же их, боже мой! Вот уж много суток идут они вверх, может быть, будут идти весь июнь и июль. В их движениях заметна поспешность. Они, кажется, не кормятся, не отдыхают, какая-то скрытая сила гонит их вперед. Но куда и зачем?
Позже, достигнув зрелости, они разбредутся по закоулкам речного дна и станут непримиримыми врагами. Но сейчас держатся сообща, так им легче обнаружить опасность: два глаза того не увидят, что сотни. А опасность подстерегает их всюду: за камнями, в складках песка, в мутной глубине. Вот и жмутся они к самому берегу, ищут мель, там меньше врагов. И как странно устроила природа: врагами этих маленьких существ являются чаще всего сами рыбы, родившие их. Тут уж не доверяй родственному чувству!..
Мне захотелось посмотреть, как мальки будут пересекать струи безымянного притока при его слиянии с Зеей. Иду по-над берегом. Вдруг рядом всплеск, мелькнула тень, и брызги серебра рассыпались по поверхности. Это мальки, спасаясь от страшной пасти ленка, выскочили из воды, а некоторые даже попали на сухой берег и запрыгали, словно на раскаленной сковороде. Я их вернул обратно в воду. Темная полоска, разорванная внезапным нападением хищника, снова сомкнулась и поползла вверх.
Приток стремительно пробегает последний перекат, сливается с Зеей. Мальки тугой полоской подходят к устью, еще больше жмутся к мелководному берегу, как бы понимая, что здесь, под перекатом, их давно поджидают те, с кем опасно встречаться. Но сила инстинкта гонит их дальше. И вся эта масса исчезает, распыленная речной струею.
Многие малявки откалываются от общей полоски и устремляются вверх по притоку. Быстрое его течение отбрасывает их назад, бьет о камни, будто пытаясь заставить повернуть обратно, но не может. В этих крошечных существах живет упрямое желание попасть именно в этот приток, а не в какую-то другую речку, пусть она будет во много раз спокойнее. Вот и бьются мальки со струею, лезут все выше и выше. За перекатом тиховодина, там передышка. И снова перекат. И так до места…
Невольно хочется узнать: а где же их конечный путь? Они спешат к местам, где родились и откуда были снесены водою совсем крошечными, еще не умевшими сопротивляться течению. И в этом их неудержимом движении к родным местам есть неразгаданная тайна. Непонятно, как эти маленькие существа, впервые поднимаясь вдоль однообразного берега Зеи, мимо множества притоков, безошибочно находят русла своих рек и как, поднимаясь по ним, угадывают свои места. С кетой происходят еще более загадочные явления. Ее также малявкой сносит река в море, жизнь она проводит в далеком океане и через несколько лет возвращается к родным местам, к истокам рек, проделав сложный и очень длинный путь в несколько тысяч километров. И все-таки ее ничто не может сбить с правильного пути, она безошибочно находит свою реку, мечет в ней икру и погибает там, где родилась.
Эти мальки, что идут сейчас вверх по Зее, разбредутся по своим притокам и там, у родных заводей, проведут короткое лето. К зиме, повзрослев, они спустятся в ямы и будут служить пищей крупным рыбам, а весною уцелевшие снова повторят свой путь к родным местам.
Такая молодь поднимается и вдоль противоположного берега: это жители правобережных притоков. Весною, отправляясь в далекий путь, мальки строго придерживаются своей стороны и не нарушают «правил речного движения».
Мы уже собрались покинуть берег, как издалека донесся крик филина.
– Это Улукиткан! – обрадовался Василий Николаевич.
Крик филина повторился ближе, яснее. Видим, на косу из тайги выходит караван. С ним наши собаки.
Шумно становится на нашей одинокой стоянке. Разгорается костер. Людской говор повисает над уснувшей долиной. Отпущенные олени бегут в лес, туда же уплывает и мелодичный звон бубенцов.
– Орон[10] совсем дурной, постоянно торопится, бежит, будто грибы собирает, – бросает им вслед ласково Улукиткан.
Мне кажется, что только с завтрашнего дня по-настоящему начнется наше путешествие.
– Какие вести, Геннадий? – не терпится мне…
– Трофим вернулся из бухты, не хочет идти в отпуск, просится в тайгу… – Взглянув на часы, Геннадий забеспокоился: – Двадцать минут остается до работы!
Общими усилиями ставим палатку, натягиваем антенну. Геннадий устраивается в дальнем углу и оттуда кричит в микрофон:
– Алло, алло, даю настройку! Один, два, три, четыре… Как слышите меня? Отвечайте. Прием.
Я достаю папки с перепиской и разыскиваю радиограмму Трофима.
«Прибыл в штаб, – пишет он. – Здоров, чувствую себя хорошо. Личные дела откладываю до осени. Разрешите вернуться в тайгу. Жду указаний. Королев».
«Почему он решил не ехать к Нине? – думаю я. – Неужели в их отношениях снова образуется трещина? Мы ведь давно смирились с мыслью, что в это лето Трофима не будет с нами, и вдруг… Правильно ли он поступает?»
Переговоры на этот раз со штабом не состоялись из-за помех в эфире. Отложили до утра.
…Полночь. Все спят. В палатке горит свеча. Я просматриваю радиограммы, накопившиеся за время моего отсутствия, пишу ответы, распоряжения. В подразделениях экспедиции обстановка за эти дни мало изменилась. Работы разворачиваются медленно, мешают дожди, половодья. Есть и неприятности. В топографической партии на южном участке одно подразделение, пробираясь по реке Удыхину, провалилось с нартами под лед. Оленей спасли, а имущество и инструменты погибли. Нужно же было людям пройти длительный, тяжелый путь по горам, почти добраться до места работы – и попасть в ловушку!
Потерпевших подобрали геодезисты, случайно ехавшие по их следу. В первый же день летной погоды этому подразделению сбросят с самолета снаряжение, продовольствие и одежду.
– Сколько времени? – спрашивает, пробуждаясь, Василий Николаевич и, не дожидаясь ответа, вылезает из спального мешка. – Куда думаете направить Трофима? – вдруг задает он беспокоивший его даже и ночью вопрос.
– В отпуск. Здоровье у него вообще неважное, после воспаления легких в тайге долго ли простудиться? Да и Нина будет, наверно, обижена его отказом приехать к ней.
– Не поедет он туда, зря хлопочете, – возражает Василий Николаевич.
– Это почему же?
– Знаю, истосковался он по тайге, а вы ему навязываете отпуск. Нина подождет. Не к спеху!
– Не было бы, Василий, хуже. Трофим ведь не щадит себя. Боюсь за него. Мне все кажется, будто он еще мальчишка.
– Ну уж выдумали тоже – мальчишка! Смешно даже… У Трофима голова – дай бог каждому! К тому же он ведь что наметит – жилы порвет, не отступится. Характер имеет, – убежденно говорит Василий Николаевич.
Я достал радиограмму, адресованную Королеву, с предложением ехать в отпуск, и разорвал ее, но новой не написал, отложил до утра.
Ночью, просыпаясь, я все время думаю о Трофиме. Трудно сломить его упорство. Уж если он отложил поездку к Нине до зимы, его не переубедишь. Но и в тайгу посылать его после такой болезни было бы безрассудно. Что же делать?
Утром ко мне под полог пришел Геннадий.
– Возьмите к себе радистом Трофима, тут ему будет лучше.
– А ты куда?
– Мне в августе в институт, далеко уходить в тайгу нельзя. Пошлите в другое подразделение, поближе к жилым местам.
– Может, надоела тебе кочевая жизнь?
– Что вы!.. Из-за нее в геодезический институт иду. Но ведь так будет лучше и для меня, и для Трофима.
На этом и порешили.
Утром я дал телеграмму в штаб Плоткину отправить Трофима на самолете к нам и увезти Геннадия.
Нам придется здесь задержаться до прибытия самолета.
После завтрака мои спутники отправились осмотреть косу, где мы собираемся посадить «У-2», а я беру дневник и иду на берег притока. Против меня галечный остров, отгороженный от большой воды наносником. Его середина занята переселенцами: березками да тальничком, выбросившими раньше других нежную зелень листвы. А на краю, что ближе ко мне, лежит мокрым пятном лед – остаток зимней наледи. При моем появлении с острова поднялись две желтогрудые трясогузки. Покружились в воздухе, попищали и снова уселись на колоде рядом со льдом.
Казалось, ничего удивительного нет в том, что две трясогузки кормились на острове или проводили на нем свой досуг. Сколько птиц за день увидишь, вспугнешь! Вольно же им, имея крылья, жить где хотят. Но тут я имел случай наблюдать интересное явление.
Часа два я сидел на берегу притока, склонившись над дневником. А взгляд нет-нет да и задержится на колоде, где сидели трясогузки. «Почему они так безразличны к окружающему миру?» – думал я, все больше присматриваясь к ним.
Всем птицам весна принесла массу хлопот. Кажется, и минуты у них нет свободной: надо поправить гнезда, натаскать подстилки, определить места кормежек. А сколько времени отнимают любовные игры, да и песни – без них тоже нельзя.
Птицы весь день в суете. Но эта пара трясогузок, сидящая на колоде, словно не замечает весны, будто не собирается обзаводиться потомством. Не перелетные ли это трясогузки? Тогда их хлопоты где-то далеко впереди. Но ведь перелет уж закончился. Может быть, это странствующие бездомники? Тогда что их приковывает к этому островку?
Я стал более внимательно присматриваться к ним. Пролетит ли близко шмель, вспорхнет ли бабочка, побежит ли по колоде букашка, кажется, ничего этого они не замечают. Только изредка какая-нибудь из них молча качнет своим длинным хвостом, вот и все.
Вижу, к ним на островок подсели две другие трясогузки. Они стали быстро-быстро бегать по гальке, хватали насекомых на лету, на камнях, на мелком наноснике и беспрерывно перекликались между собою тоненькими голосами. В их движениях заметная поспешность, будто между какими-то важными делами они урвали минутку покормиться. Неужели у трясогузок, сидящих на колоде, какое-то горе? Но какое?
Я уже не мог больше оставаться просто наблюдателем, снял сапоги, засучил штаны и перебрался на остров. Какая холодная вода! Не успел я погрузить в нее ноги, как тысячи острых иголок глубоко вонзились в тело. Не помню, как перемахнул протоку.
Вспугнутые моим появлением трясогузки исчезли. Но стоило мне подойти к колоде, как они появились снова и, усевшись поблизости на камне, с заметным беспокойством следили за мною. Разгадка пришла сразу, с первого взгляда: из-подо льда, размякшего на солнце, неровным контуром вытаял верхний край старенького гнездышка, устроенного под тальниковым кустом. Вот и ждут трясогузки, когда оно освободится совсем, чтобы поселиться в нем, чтобы отдать дань весне.
Сколько вокруг прекрасных мест и в тени, и на солнышке, под старыми пнями! Куда лучше и безопаснее острова! Свили бы себе новое гнездышко и зажили как все. Но нет, не хотят. Они ждут терпеливо и, может быть, мучительно, когда смогут занять свое хотя и старенькое, но родное жилище.
Я разбросал остаток льда и освободил из него гнездо. Оно было очень ветхое, сырое и требовало капитального ремонта. Не верилось, чтобы трясогузки поселились в нем. Ну а если они в нем родились и первый раз в жизни, открыв глаза, увидели эту крупную гальку, из которой сложен остров, тальниковый куст, край наносника и голубое просторное небо над ним – как, должно быть, дорого для них все это!
Кому не приходилось после долгой разлуки возвращаться к родным местам, где все до мелочей знакомо, мило, близко! Вот и пронеслось опять в воображении несвязными обрывками мое далекое детство: ветхая калитка у плетня, дыра в подворотне, где лазил я когда-то с Каштанкой; спрятанные казанки под похилившимся порожком, воробьиные гнезда, яблоки за пазухой из чужого, соседнего, сада. Как все это сейчас дорого! Разве есть на земле место теплее того, где впервые начал ходить, скакал верхом на хворостине, играл в прятки, со страхом слушал сказки про Бабу-ягу, а после, крепко сдружившись с ребятами, ходил на реку, в лес, ездил в ночное, впервые познал те ощущения, которые рождает горящий во тьме костер? Верно, родные места иначе и ярче окрашены, чем все остальные…
Косые лучи солнца скользили в просветах по-весеннему потемневшего леса. Жаркий, издалека прилетевший ветерок еле шевелил кроны, и где-то внизу по реке, за поворотом, бранились кулички.
Я возвращался на стоянку, находясь во власти воспоминаний о родном крае, о далеком Кавказе.
Самолет будет при наличии погоды во второй половине дня.
Людей одолевает скука. Лиханов, скрючив спину, чинит седла, смачивая слюною нитки из оленьих жил. Василий Николаевич, навалившись грудью на Кучума, выдирает самодельной гребенкой из его лохматой шубы пух. Увидев меня, собака вдруг завозилась, стала вырываться, визжать, явно пытаясь изобразить дело так, будто человек издевается над нею.
– Перестань ерзать, дурень! Тебе же лучше делаю, жара наступает, изопреешь, – говорит Василий Николаевич, посматривая на морду Кучума через плечо. – Ну и добра же на нем, посмотрите! – подает он мне пригоршню пепельного, совершенно невесомого пуха.
– А что ты хочешь с ним делать?
У Василия Николаевича по лицу расплывается лукавая улыбка. Прищуренными глазами он скользнул по Лиханову и, будто выдавая свою заветную тайну, шепчет:
– На шаль собираю.
– Кому?
– Нине, конечно. Осенью свадьбу справлять будем, вот мы и накроем невесту пуховым платком из тайги. Уж лучшего подарка и не придумать!
– Это здорово, Василий! По-настоящему хорошо получается.
– Беда вот, никак не уговорю этого дьявола! – И он кивнул головою на Кучума. – Силен, бес, того и гляди уволочет в чащу.
– А ты сострунь его…
– Не за что… – И лицо Василия Николаевича размякло от жалости. – Разве провинится, ну уж тогда походит по нему ремень. Как думаешь, Кучум?
Пес прижал уши, глаза прищурил, явно готовится к прыжку. Я жду и молча подаю знак ему: дескать, пробуй вырваться. И действительно, стоило Василию Николаевичу повернуться, как Кучум, словно налим, выскользнул из-под него, перемахнул через груз, накрытый брезентом, – и поминай как звали!
Василий Николаевич вскочил, кинулся было догонять, но, споткнувшись о колоду, остановился.
– Никуда не денется, придет! А уж шаль Нине будет на славу!
Уже полдень. Неподвижен воздух, густо настоянный хвоей. Пахнет булыжником и прогретой лиственничной корою. После долгой зимней стужи, после холодных туманов земля распахнула отогретую солнцем грудь, чтобы вскормить жизнь.
Самолет на подходе. Мы все дежурили у костра. Столб дыма, поднявшийся над ущельем, должен быть виден далеко. Небо, всполоснутое дождем, ярко-голубое. Воздух на редкость прозрачный. Гольцы с одной стороны политы ярким светом солнца, с другой – покрыты тенью, и от этого заметнее выделяются и изломы и линии отрогов.
Но вот у дальнего горизонта появляется точка: не то коршун, не то самолет – не различишь. До слуха долетает гул мотора.
Машина обходит нас большими кругами. Летчик ощупывает площадку. Ему сверху хорошо видны ее границы и подход.
Наша встреча с Трофимом была трогательной. Мы были рады, что он здоров, по-прежнему жизнерадостен и разделит с нами трудности походной жизни. Геннадий распрощался с нами и с этой машиной улетел в штаб.
На следующий день, десятого июня, мы начали свое путешествие к невидимому Становому.
Раненько мы уже на ногах. Солнце палит немилосердно. Олени сбежались к дымокурам, приманив за собою из лесу полчища комаров. Удивительно, с какой быстротою размножился гнус. Ведь неделю назад он еще не беспокоил нас.
Когда были сняты палатки и сложены вьюки, я вспомнил, что в моем дневнике остались незаконченными записи наблюдений за трясогузками. Изменилось ли их «настроение», когда они увидели освобожденное из-подо льда гнездо? Я вышел на берег Зеи. Остров пустовал: ни трясогузок, ни куликов. Пришлось перебрести протоку, иначе я унес бы с собою неразгаданную тайну.
Гнездо оказалось «отремонтированным», и в нем на скудной подстилке уже лежало крошечное яйцо. Хозяева, видимо, улетели кормиться или проводят утро в любовных играх.
Пробираемся с караваном вдоль Зеи. Тут сухо. Но чаща пропускает нас вперед только под ударом топора. Это не нравится Улукиткану. Ему хочется попасть к подножию гор, справа от нас.
– Может, там звериный тропа есть, пойдем, – говорит он, сворачивая из зарослей.
Но за краем багрового леса нас встречает топкая марь, захватившая почти все ложе долины. Только изредка видны на ней узкие полоски перелесков. Олени грузнут, тянутся на поводке, заваливаются. Слышится крик, понукание, угрозы. Все же добираемся до средины мари, а дальше – болота. На подступах к ним вырос густой непролазный троелист. Улукиткан опускает палку в воду, но дна не достает. Покачав головой, старик прищуренными глазами осмотрел местность и, не увидев конца болотам, молча поворачивает обратно к реке.
На берегу даем передышку оленям, идем дальше. Солнце в зените. Комар поредел. Теперь нас сопровождает отвратительный гул паутов. На оленей нельзя смотреть без сожаления. Бедняжки, связанные ремнями друг с другом, да еще с тяжелыми вьюками, они не имеют возможности защищать себя. А пауты наглеют, садятся на голые спины, на грудь, к нежной коже под глазами. В муках животные быстро теряют силы. Падают уши, из открытых ртов красными лоскутами свисают языки.
Улукиткана не покидала мысль перевести караван через марь к подножию гор. В поисках прохода он вел нас стланиковой чащей вдоль высокоствольного берегового леса. От зноя все затаилось, молчало. Только гул реки сотрясал воздух.
Старик неожиданно остановил караван и, низко пригибаясь к земле, стал что-то рассматривать. Вдруг он схватил повод, повернул оленя и стал поспешно уводить нас своим следом обратно в лес.
– Все уходи отсюда, скоро уходи! – кричал он, поторапливая животных и оглядывая равнину с заметным беспокойством.
Но там ничего подозрительного не было заметно. Лишь кое-где на мари неподвижно торчали засохшие лиственницы да видны были горбы земли, выпученные вечной мерзлотою. Однако беспокойство старика заразило нас, и мы, слепо следуя за ним, скрылись в лесу из виду.
На первой прогалине караван приткнулся к толстой лиственнице, остановился. Кажется, со всей тайги слетелись пауты. Никогда они не были такими свирепыми, как в этот знойный полдень. Олени безвольно попадали на землю и уже не сопротивлялись.
Пока мы с Улукитканом сбрасывали вьюки с оленей, остальные таскали валежник и мох. Дым костра – отпугнул от стоянки паутов. Но животные продолжают лежать в полном изнеможении.
– Что испугало тебя, Улукиткан? – спросил я.
– Ты разве ничего не видел? Там новую тропу сокжой топтал, – совсем свежий, сегодняшний.
– Надо было ею и идти через марь.
– Обязательно пойдем, зверь лучше нас знает, как болото обойти.
– Зачем же вернулся?
– Пусть олень отдохнет. А ты, если сокжой нас не видел, охота ходи. Сейчас он на гору побежал, скоро к речке вернется, потом опять на гору побежит, и так весь день туда-сюда, от паута спасается… Минута не стоит. Шибко худой время для зверя! Иди с ружьем на Зею.
Жара спадет не раньше как часам к пяти, тогда успокоится и паут. Раньше нечего и думать трогаться в путь. Я решил воспользоваться предложением Улукиткана, посмотреть, как ведет себя дикий олень в эти жаркие июньские дни. Натягиваю на голову накомарник, беру карабин и тороплюсь к реке.
– В такую жару зверь немного слепой, немного глухой, только нос правильно работает, – напутствует меня старик.
Незаметно крадучись, выхожу на береговую гальку. Зея, стремительная, гневная, проносится мимо, разбивая текучий хрусталь о грудь черных валунов. Тонкие, стройные лиственницы столпились на берегу и смотрят, как весело пляшут буруны на перекатах, как убегает в неведомую даль шумливая река.
Слева от меня небольшая заводь, чуть прикрытая желтоватой пеной. А еще ниже, у поворота, заершился наносник из толстых деревьев, принесенных сюда в половодье. Стоит он прочно на струе, расчесывая космы бурного потока. А за рекою, на противоположной стороне, поднялись отроги, и по ним высоко побежал непролазной стеною лес. Там, в высоте, на дикой каменистой земле он хиреет, сохнет, пропадает.
На берегу быстрой реки в тихий солнечный день нет прохлады. Пауты наглеют, жалят сквозь рубашку и, кажется, сотнями иголок, тупых и ржавых, сверлят тело. Я не успеваю отбиваться, а укрыться негде. В тени они еще злее.
Вдруг впереди, за ельником, послышался грохот гальки. Глаза мои останавливаются на узенькой полоске береговой косы, откуда долетел этот звук. Я не успеваю скрыться, как к реке выскакивает огромный олень, уже вылинявший, рыжий. Пришлось так и замереть горбатым пнем возле ольхового куста, на виду у него. Левая нога отстала и повисла в воздухе, руки застыли на полувзмахе.
Вижу, сокжой бежит по косе, наплывает на меня. Ноги вразмет, гребет ими широко, во всю звериную прыть. Но корпус уже отяжелел от долгого бега. Голова ослабла, и из широко раскрытого рта свисает длинный язык. Вот он уже рядом. «Неужели не видит?» – проносится в голове. Но зверь вдруг, глубоко засадив ноги в гальку, замирает в пятнадцати шагах, бросая на меня сосредоточенный взгляд. Какой редкий случай рассмотреть друг друга! Каюсь, что не взял фотоаппарата, хотя снять зверя невозможно в этом молчаливом поединке: малейшее движение – и он разгадает, что перед ним страшная опасность.
Я не дышу. Даже боюсь полностью раскрыть глаза. А два проклятых паута, один на носу, другой над бровью, больно, до слез, вонзают свои острые жала сквозь накомарник. А зверь стоит предо мною, позолоченный жарким солнцем, огромный, настороженный, красивый, и тоже, кажется, не дышит.
Как дьявольски напряжен зверь в этот момент, пытаясь понять, что за чудо прилепилось к ольховому кусту и было ли оно тут раньше! В другое бы время ему достаточно одного короткого взгляда, теперь же он зря пялит на меня свои большие глаза, торчмя ставит уши. Все в нем парализовано бешеным натиском паутов. Хотя эта сцена длится всего несколько секунд, но мне их достаточно, чтобы на всю жизнь запомнилась необыкновенная встреча.
Какое счастье для натуралиста увидеть в естественной обстановке так близко оленя именно в том возрасте, когда от него разит силой и дикой вольностью! А ведь если бы не пауты, разве представилось бы мне это редчайшее зрелище?
Во внешнем облике этого сокжоя, в упругих мышцах, в откинутой голове, в раздутых докрасна ноздрях как-то особенно резко заметны черты самца. Он весь кажется вылитым из красной меди. Какие изящные ноги, как пропорционально его тело! Будто великий мастер оттачивал его. Только почему-то не отделал до конца ступни ног, так и остались они несоразмерно широкими, тупыми и очень плоскими. Что-то незаконченное есть и в голове сокжоя. Мастер, кажется, нарочито оставил ее слегка утолщенной, чтобы не спутать с заостренной головой его собрата – благородного оленя. Но какие рога! Хотя они еще не достигли предельного размера, их отростки еще мягкие, нежные, обтянуты белесоватой кожей, но и в таком, далеко не законченном виде они кажутся могучими и, может быть, даже чрезмерно большими по сравнению с его длинной, слегка приземистой фигурой. Из всех видов оленей сокжой носит самые большие и самые ветвистые рога.
Зверь, словно опомнившись, трясет в воздухе разъеденными до крови рогами и с отчаянием, перед которым отступает даже страх, проносится мимо меня. Я вижу, как он в беге широко разбрасывает задние ноги, как из-под плоских копыт летят камни. И, кажется, уже ничего не различая впереди, зверь со всего разбега валится в заводь. Столб искристых брызг поднимается высоко, и на гальку летят клочья бледно-желтой пены.
Теперь только я успеваю укрыться за кустом. Мне никогда не приходилось видеть, как купаются в реке звери.
Сокжоя почти не видно за пылью взбитой воды, мелькают лишь рога да слышится глухой, протяжный стон, не то от облегчения, не то от бессильной попытки стряхнуть с себя физическую боль. Но вот звуки оборвались, успокоилась заводь. Сокжой стоит по брюхо в воде, устало пьет и беспрерывно трясет то своей усыпанной блестящей пылью шубой, то могучими рогами. Даже в реке его не оставляют пауты. Он начинает злиться, бить по воде передними ногами и неуклюже подпрыгивать, словно исполняя какой-то дикий танец.
Каким забавным кажется взрослый сокжой в этих необычных для него движениях! Он напоминает мне купающегося ребенка, с восторгом шлепающего по воде руками и ногами.
Но всему, кажется, есть предел. Зверь, будто почуяв опасность, вдруг выскочил на берег. Он опять ищет спасения в беге. Я мгновенно поворачиваюсь к нему, ложе карабина прилипает к плечу.
Грохочет выстрел. В знойной тишине коротко огрызается на него правобережная скала. Пуля, обгоняя сокжоя, взвихривает пыль впереди него. Это мне и нужно! Зверь круто поворачивает назад и, охваченный страхом, несется на меня.
Глаза тревожно шарят кругом, ноги готовы вмиг отбросить в сторону тяжелый корпус.
Теперь все подозрительное вызывает в нем страх. Увидев меня, он бросается в реку, огромными прыжками скачет через заводь и исчезает в бурном потоке Зеи. А над косой носятся обманутые пауты, не понимая, куда девался зверь. Сокжой, благополучно миновав наносник, выбирается на крутой противоположный берег и скрывается в зеленой чаще леса.
Пора возвращаться. Солнце сушит позеленевшую землю. В полуденной истоме млеет тайга. Ни птиц, ни звуков, даже комары присмирели. Стрекозы бесшумно носятся в горячем воздухе.
В лагере тоже покой. Стадо отдыхает, плотно прижавшись к дымокурам. Люди под пологами пьют крепкий чай.
По долине вдруг пробежал ветерок, встревожился лес, повеяло прохладой. Олени, разминая натруженные спины, разбрелись по лесу.
Часа через два наш караван уже пробирался по чаще и болотам.
Предположение Улукиткана оправдалось: тропа, проложенная сокжоем, помогла нам благополучно перейти марь, выйти к подножию левобережных гор, образующих долину Зеи. Как только под ногами оказалась сухая земля, проводники повеселели, Николай запел, растягивая однотонные звуки. А Улукиткан взобрался на своего оленя и, покачиваясь в седле, покрикивал ободряющим голосом на животных.
Мы продолжаем продвигаться на север. Долина все так же просторна. Русло Зеи на всем своем протяжении прижимается к правой стороне долины, стачивая спадающие к ней крутые отроги гор.
В тучах гаснет кровавый закат – вестник непогоды. Вечер холодный. Угрюма, без птичьих песен, лиственничная тайга. Пора подумать о ночевке.
Улукиткан торопит оленей. За озерком он сворачивает влево, переводит караван через густую осоку, и олени мягко зашагали по бархатистому мху к поляне. Неожиданно из зарослей багульника выскакивает заяц. Мелькает по просветам, несется вперед, точно удирая от стаи борзых, но вдруг останавливается, поднимается на задние лапы, разочарованно оглядывается – за ним никто не гонится.
– Счастье твое, косой, что собаки отстали! – говорит добродушно Василий Николаевич.
У края поляны мы остановились на ночлег. Заяц еще долго наблюдал за нами, потом неохотно поковылял в перелесок.
На второй день в полдень мы поднялись на небольшую возвышенность. Наконец-то видим Становой! Его скалистые гряды протянулись перпендикулярно направлению долины, как бы преграждая нам путь. Хребет, когда на него смотришь с юга, кажется грандиозным и недоступным.
По небу бродят, как хмельные, облака. Это опять к непогоде. Улукиткан торопится. Непременно хочет сегодня добраться до устья Лючи и успеть до дождя переправиться на правый берег этой быстрой речки.
Когда нет солнца, когда тучи давят на горы и шальной ветер рыщет по тайге, неприветливо бывает в этом пустынном крае. Нет здесь цветистых полян, красочных лужаек. Даже летом ваш взгляд не порадуют заросли маков, огоньков, колокольчиков. Открытые места, хотя мы и называем полянами, – это не то, что обычно понимается под этим словом. Их глинистая почва почти никогда не прогревается солнцем, тут вечная мерзлота, и растительность на ней очень бедная. Ерник, кочки, обросшие черноголовником, да зеленый мох – вот и все. И всюду вода. Она образует или сплошные болота, затянутые троелистом, или сети мелких озеринок. Сама же тайга, покрывающая три четверти долины, редкая, захламленная, а деревья низкие, комелистые, корявые. Все это: и кочки, и мох, и стылые озера, и горбатые скелеты лиственниц, склонившихся в последнем поклоне, – делает картину суровой. Только стланики здесь благодушествуют!
Одиноко чувствуешь себя в этих забытых местах. Человек не оставил здесь ни могил, ни огнищ, ни брошенных чумов. Лишь изредка увидишь уже сгнивший пень и с трудом различишь на ней след топора. Значит, когда-то сюда заходили люди. Какая нужда гнала их в эту глушь и какой же нужно было обладать приспособленностью, чтобы просуществовать здесь, среди скупой природы! Но все это было, конечно, давно. Нынешние потомки бывших кочевников эвенков не пожелают повторить горькую судьбу своих отцов.
Наши голоса, крик Майки, треск сучьев под ногами оленей непривычно отдаются в застойной тишине.
Мы выходим на широкую прогалину и слева у реки видим дымок. Вот уж этого никак не ожидали!