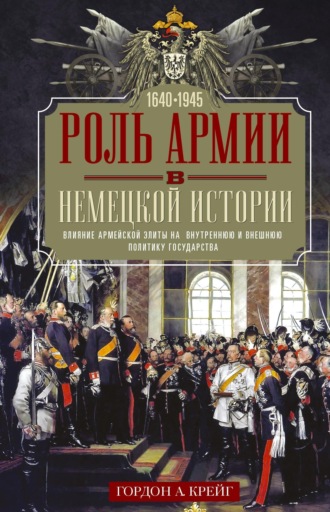
Гордон А. Крейг
Роль армии в немецкой истории. Влияние армейской элиты на внутреннюю и внешнюю политику государства, 1640–1945 гг.
Действуя в согласии со своими собственными принципами, Фридрих Вильгельм с самого начала царствования направил всю свою энергию на задачу увеличения численности и боеспособности армии и одновременно на ее освобождение от той зависимости от иностранных субсидий, которая в периоды предыдущих правлений вовлекала Гогенцоллернов в войны не всегда отвечающие их интересам. Проводя политику самой жесткой экономии, при которой прусское государство ежегодно тратило на армию в четыре-пять раз больше, чем на все другие статьи расходов, Фридрих Вильгельм увеличил размер своих вооруженных сил с 40 000 до 83 000 человек, тем самым сделав прусскую армию четвертой по величине в Европе, хотя государство занимало только десятое место по территории и тринадцатое по населению19.
Этот значительный рост сопровождался коренными изменениями в структуре и личном составе армии и ее командования. Самым большим источником беспокойства короля в первые годы правления был личный состав. Фантастическая суровость прусской дисциплины способствовала дезертирству. Каждый год этого правления число беглецов из армии составляло не меньше 400 человек, а общее число дезертиров между 1713 и 1740 годами равнялось 30 216 человекам. Более существенными источниками истощения были возраст и болезни, ежегодно приводившие к увольнению 20 процентов боеспособного состава. Вскоре король понял, что не может надеяться возместить эти потери, полагаясь на добровольцев. Поэтому в ранние годы он все чаще прибегал к насильственной вербовке подданных и рекрутскому набору – а также рекрутскому набору, временами неотличимому от похищения людей, – в соседних государствах. Однако результаты этого едва ли оказывались удовлетворительными. Мало того что король был постоянно вовлечен в споры с другими правителями, которые возмущались нарушением их прав, он и в своих собственных землях столкнулся с растущим общественным негодованием и – что, вероятно, сильнее тревожило его бережливую натуру – с увеличением эмиграции, которая оказала пагубное влияние на экономику государства20.
Фридрих Вильгельм I стремился преодолеть эти трудности, сделав службу в постоянной армии юридически обязательной для всех своих подданных. Обязанность защищать страну в чрезвычайных ситуациях посредством службы в местных ополчениях была принята еще со времен Тридцатилетней войны и получила юридическую силу в соответствии с постановлением 1701 года. Однако система ополчения никогда не применялась регулярно, временные формирования как резерв для постоянной армии были неэффективны, а зачисление в ополчение слишком часто служило предлогом для уклонения от службы в регулярных войсках. По этой причине Фридрих Вильгельм в первый год своего правления упразднил существующие организации ополчения и одновременно постановил, что любой, кто покинет королевство, чтобы избежать службы в регулярной армии, будет считаться дезертиром. По внутреннему смыслу этот декрет устанавливал принцип всеобщей воинской повинности21.
В течение следующих двадцати лет другие распоряжения упорядочили процедуру рекрутчины, кульминацией стали указы 1732–1733 годов, установившие основные черты того, что получило название прусской кантональной системы. Каждому полку в армии назначался определенный призывной округ или кантон, все юноши округа зачислялись в полковой рекрутский список, а когда квоты не удавалось заполнить посредством добровольного зачисления, нехватка компенсировалась за счет подходящих кандидатов в списках.
Хотя все последующие приказы о кантонах подтверждали всеобщую воинскую повинность и хотя эта повинность стала общепринятой в обычном праве, ни Фридрих Вильгельм I, ни его преемники не пытались сделать что-либо близкое к всеобщему призыву прусских подданных. На практике делались либеральные исключения в интересах торговли, промышленности и государственной службы, вся высшая прослойка общества, включая наиболее зажиточных ремесленников и рабочих на предприятиях, представляющих интерес для государства, от повинности освобождалась, а бремя это легло почти исключительно на батраков и менее зажиточных крестьян22. Более того, даже этим призывникам предоставлялись весьма щедрые отпуска. В целях охраны интересов крупных землевладельцев крестьян-призывников каждую весну после двухмесячной строевой подготовки освобождали от действительной службы, и, таким образом, в мирное время армия в полном составе существовала только в апреле и мае23.
Даже при таком ограниченном применении кантональная система была заметным нововведением. Это обеспечило армии то, что фактически представляло собой большой обученный резерв, который можно было быстро мобилизовать в случае необходимости. Это также произвело важное изменение в самом характере военного строительства, поскольку, несмотря на большое количество иностранных наемников на службе, армия теперь, по крайней мере во время войны, должна была быть преимущественно национальной по составу. Наконец – и это не менее важно – общепринятая конвенция о всеобщей воинской обязанности послужила необходимой основой для полной реорганизации прусской армии, воплотившейся в жизнь в наполеоновский период24.
Столь же важной, как и кантональная система, была успешная попытка короля убедить пойти на службу в армию свою знать. В гордых и свирепых баронах своих походов он узнавал воинские доблести, в которых нуждалось государство, и ясно понимал, что эти сельские лорды были естественными вождями крестьянских юношей, подлежащих теперь военной службе. Одной лишь муштрой и дисциплиной людей в армию не сплотить. Как писал Хинтце, фундамент должен быть подготовлен «устойчивыми идеями и концепциями, наследуемыми и культивируемыми и подтвержденными традицией»25. Чтобы интегрировать сельские массы в свое войско, Фридрих Вильгельм полагался на своих юнкеров, чья служба в офицерском корпусе эффективно внедряла в армию отношения между офицером и солдатом, подобные традиционным отношениям в сельском обществе.
Примирение аристократии с короной началось при Великом курфюрсте, путь к нему открыл компромисс 1653 года. Тем не менее, несмотря на личный престиж курфюрста и преимущества, которые он желал предложить, поступившие к нему на службу дворяне продолжали сопротивляться, в особенности в Восточной Пруссии, и Фридрих Вильгельм I решил это сопротивление преодолеть по причинам как политического, так и военного порядка.
«Я разрушу власть юнкеров, – сказал он однажды, – и утвержу самодержавие как незыблемую опору»26. В начале своего правления он запретил дворянам поступать на дипломатическую службу. В то же время он приказал составить списки всех молодых дворян в возрасте от 12 до 18 лет и на их основании лично отобрал тех, кого следовало принять в кадетский корпус в Берлине, служивший воротами к офицерскому званию. Какое-то время эта практика встречала ожесточенное сопротивление, в особенности в Восточной Пруссии, где кое-кто из незадачливых кандидатов пытался доказать, что они не принадлежали к прусской знати и, следовательно, непригодны для службы, в то время как другие искали спасения в бегстве. Но король не терпел подобных уверток и не гнушался посылать полицейских агентов или войсковые отряды, чтобы схватить предполагаемых офицеров и группами доставить их в Берлин.
К 1724 году во владениях Гогенцоллернов практически не было дворянской семьи, у которой сын не состоял бы в офицерском корпусе, а к 1740 году свою личную битву король выиграл. Скорее всего, не столько в результате готовности применить силу, сколько солидных преимуществ, которые он давал своей знати. Сыновьям семей, за душой у которых иногда гордости в наличии было больше, чем денежных средств, он предлагал образование, уровень жизни выше, чем тот, на который они могли бы рассчитывать в противном случае, возможность подняться до высоких военных и политических постов и непревзойденное социальное положение в государстве. Им предлагались и менее осязаемые, но, разумеется, не менее привлекательные преимущества связи с королем в почетном призвании на условиях полного социального равенства. В новом офицерском корпусе Фридрих Вильгельм носил такой же мундир, как и его капитаны и лейтенанты, за единственным исключением генералов ни один офицер не надевал знаки различия воинских званий, а правитель и его дворяне составляли закрытое общество, регулируемое законами профессиональной компетентности и феодальной чести. Неудивительно, что дворянство находило эту атмосферу близкой по духу и начинало считать службу, на которую пошло с неохотой, своей естественной профессией27.
В то время как система кантонов и мобилизация дворянства для военных целей дали его армии национальную основу, которой у нее не было раньше, Фридрих Вильгельм продолжал следовать курсу, столь проницательно намеченному Великим курфюрстом, и продвигал единообразие и централизацию своих вооруженных сил. Форма и оружие были тщательно прописаны королем и его советниками. В 1714 году сам Фридрих Вильгельм написал самый первый всеобъемлющий пехотный устав, когда-либо изданный для армии, набор инструкций, который отныне регулировал каждый этап жизни солдата в гарнизоне и на поле боя. Изложенные в нем приемы обращения с оружием и тактические перестроения, а также бесконечная муштра, с которой они прививались войскам, придали пехоте Фридриха Вильгельма дотоле неведомые континентальным армиям гибкость и верность в маневрах и одновременно придали огню быстроту и точность, прославившие прусские армии во всей Европе при преемнике Фридриха Вильгельма28.
Несмотря на всю важность, которую Фридрих Вильгельм придавал обладанию армией, применял он ее очень неохотно и тщательно избегал авантюр, способных поставить под угрозу безопасность любимых гренадеров. Не то что его сын. Еще до восшествия на престол принц, вошедший в историю как Фридрих Великий, раздражался бездеятельностью Пруссии и стыдился того, что, несмотря на ее силу, страну считают простой пешкой на европейской шахматной доске29. В своих самых ранних работах он ясно дал понять, что образ Пруссии (la figure de la Prusse) необходимо исправить, если Пруссия хочет «стоять на собственных ногах и прославить имя своего короля»30. В своем нынешнем состоянии Пруссия все еще оставалась гермафродитом, более курфюршеством, нежели королевством31, ее обширные провинции выказывали открытое приглашение для иностранной агрессии, требовалась консолидация, однако произвести ее возможно только за счет новых приобретений, а новые приобретения непременно повлекут за собой применение силы. Если это так, то Пруссия должна воспользоваться первой же представившейся возможностью, и Фридрих нашел ее в восшествии в 1740 году на австрийский престол Марии Терезии, проигнорировав юридические возражения своих министров или сомнения своих военных советников. Как другой великий воин прошлого, он вполне мог бы сказать:
Или судьба его слишком страшит,
Или о доблести он стал забывать,
Дабы отважиться выхватить меч
И победить или все потерять.
В 1740 году, бросая войска через границы Силезии и положив начало опустошительному конфликту, Фридрих рисковал ни больше ни меньше, как полным разрушением своего государства. Тем не менее, завоевав Силезию и доказав свою способность ее удержать, он разрушил старое германское установление и поднял Пруссию до положения фактического равноправия с Австрией.
Войны Фридриха Великого завершили созидательную работу Великого курфюрста и Фридриха Вильгельма I, одновременно испытав усовершенствованное оружие и достигнув цели, для которой оно ковалось. «Двенадцать кампаний эпохи Фридриха, – пишет Трейчке, – навсегда запечатлелись в воинственном духе прусского народа и прусской армии, даже сегодня северный немец, зайди речь о войне, невольно прибегает к выражениям тех героических дней и, как Фридрих, рассказывает о „блестящих кампаниях“ и „молниеносных атаках“»32. Армия, столь методично взращенная Великим курфюрстом и Фридрихом Вильгельмом I, показала себя и одновременно стяжала дух и создала традицию, призванную поддерживать ее во всех переменах грядущего столетия33. В огне Семилетней войны примирение между королем и его знатью окончательно завершилось, и офицерский корпус стал воплощением духа преданности короне и государству, а простой пехотинец обрел сознание своих возможностей, которые, переданные преемникам, сделают прусские войска лучшими в Европе. Наконец, достижения армии увенчали успехом процесс, начатый в 1640 году, произвели коренное изменение в европейском балансе сил и, вне всяких сомнений, закрепили за Пруссией статус великой державы.
Армия как фактор, сдерживающий политический и социальный прогресс
Однако у медали имелась и оборотная сторона. Создание армии, способной завоевать международное признание, для правителей Гогенцоллернов стало возможным только благодаря подчинению всей энергии их подданных поддержанию этого военного формирования. Организационная структура, экономическая деятельность и даже общественное устройство Пруссии в значительной степени определялись потребностями армии, и, если созданное таким образом прусское государство было шедевром сознательного замысла, оно тем не менее по существу являло искусственное творение, неспособное к естественному росту или самостоятельному развитию.
Высокий уровень централизации, характерный для правительства Фридриха II, был естественным следствием растущих расходов на военную инфраструктуру за последнее столетие. Расходы на гражданское управление в бывшем Бранденбургском курфюршестве были чрезвычайно скромны, и их можно было по большей части оплачивать из доходов королевских владений и таких предприятий, как контролируемые короной мельницы и пивоварни. Однако во времена Великого курфюрста этого дохода оказалось недостаточно для содержания армии того размера, который он считал необходимым, и в период Тридцатилетней войны и войны со Швецией ему пришлось взимать новые налоги и специальные сборы – акцизы на потребительские товары, гербовые сборы с юридических документов, разнообразные подушные подати, ввести государственную монополию на соль и тому подобное. Для сбора этих денег назначались королевские агенты, которых называли налоговыми комиссарами (Steuerkommissare) или, что важнее в свете их целей, военными комиссарами (Kriegkommissare). Подотчетные в своей деятельности провинциальному оберкригскомиссару, а через него и генерал-кригскомиссару в Берлине, эти сборщики налогов были знаменосцами королевской власти во всех частях курфюрстских территорий, и их обязанности неизбежно приводили к посягательствам на юрисдикцию местных властей, магнатов и муниципальных администраций.
По мере роста потребностей армии это управление становилось все более сложным и все более централизованным, дабы освободить армию от зависимости от иностранных субсидий. Фридрих Вильгельм I стремился увеличить доходы, объединив управление землями короны с военными комиссариатами. Генеральная директория, которую он учредил в 1723 году, управляла королевскими владениями, собирала все налоги и руководила деятельностью монетного двора, почтовой системой и королевскими монополиями34. Кроме того, она взяла на себя управление всей экономической жизнью государства, поощряя иммиграцию иностранцев, инициируя создание и финансирование новых отраслей промышленности и в целом направляя экономический рост Пруссии на нужды военного ведомства. Наконец, разработанная Фридрихом Вильгельмом I и его преемником Генеральная директория завершила централизацию политической власти, которая началась, когда Великий курфюрст подавил провинциальные ландтаги. Министры отдельных департаментов Генеральной директории были наделены политическими и административными полномочиями, созданные в провинциях промежуточные коллегии – военно-доменные камеры (Kriegs- und Domanen-Kammer) получили судебную власть в вопросах публичного права и окончательно вытеснили учреждения местного самоуправления в городах и западных провинциях.
Таким образом, из военных комиссариатов Великого курфюрста вырос грозный административный аппарат времен Фридриха Великого – система, удовлетворявшая требованию короля к своему правительству, которое должно было быть «последовательным, как философская система, дабы финансы, политика и управление армией координировалось с одной и той же целью, а именно укрепления государства и усиления его могущества»35. Генеральная директория, особые функциональные министерства, выросшие из нее во время правления Фридриха II36, и провинциальные палаты сделали возможным объединение ресурсов государства для национальных целей и обеспечили механизм проведения политики, которую король определял в своем личном кабинете.
Армия также оказала глубокое влияние на социальное развитие и классовую структуру Пруссии. Чтобы склонить земельную аристократию к службе в армии, Великий курфюрст и его преемники, как мы видели, были готовы пойти ей на далекоидущие уступки. Партнерство, заключенное курфюрстом и его юнкерами в 1653 году, подтвердили его преемники. Мало того что юнкеры были защищены экономически, получив полную власть над своими поместьями и крепостными, которые обрабатывали их земли, но им также было разрешено в своих собственных округах сохранять важные полицейские, судебные и административные функции. Централизация, характерная для остальной части прусской администрации, остановилась в пределах имений юнкеров. Здесь верховодил ландрат, выдвигаемый товарищами-юнкерами и назначаемый королем, и власть его должна была оставаться незатронутой изменениями революционного периода37.
Право дворянства на эти экономические и политические привилегии открыто отстаивал Фридрих Великий. В конце концов, указывал он, сыновья знати защищали государство, и «эта раса настолько хороша, что заслуживает всяческой защиты»38. В глазах Фридриха эта защита включала в себя основанное на обычае право на высшие посты на государственной службе и абсолютную монополию на должности в офицерском корпусе армии. Чего Фридрих требовал от своих офицеров прежде всего, так это чувства чести – морального побуждения, которое заставляло их из уважения к себе и своему призванию терпеть невзгоды, опасности и принимать смерть, не дрогнув и не ожидая награды39. Честь, считал король, можно найти исключительно у феодальной знати, а не у других сословий и, конечно, не у буржуазии, руководствующейся скорее материальными, нежели моральными соображениями и в минуты бедствий слишком рациональной, чтобы считать жертву необходимой или похвальной40. Хотя Фридрих наверняка знал, что некоторые из великих военачальников прусского прошлого – например, Дерфлингер, Людке и Хенниге – были выходцами из простого народа, ему требовались только офицеры благородного происхождения. Он хвалил селекционную политику времен своего отца, когда «в каждом полку офицерский корпус чистили от тех людей, чье поведение или происхождение не отвечало той профессии людей чести, которую они призваны исполнять, и с тех пор порядочность офицеров не страдала среди сподвижников, исключительно людей без упрека»41.
Он сам усовершенствовал следование этому примеру и, хотя во время Семилетней войны был вынужден допустить в свои полки буржуазных офицеров, последние годы своей жизни провел, очищая офицерский корпус от этого неугодного материала. Благодаря его усилиям в 1806 году в офицерском корпусе, насчитывавшем свыше 7000 человек, было всего 695 недворян, и большей частью они были изолированы в артиллерии и вспомогательных родах войск42. По сравнению с привилегированным положением дворянства судьба других классов была суровой и напряженной. В этом военном государстве на них тоже возлагались определенные функции. Предполагалось, что буржуазия будет производить оружие и обмундирование для армии и платить большую часть военных налогов, крестьянство должно было поставлять как еду, так и рекрутов, которые ее ели. Было бы неверным сказать, что в обмен на необходимые услуги эти
классы не получали льгот. Классу бюргеров, как уже упоминалось, помогали меркантилистская программа государства и планомерная политика индустриализации, и, хотя они были исключены из владения земельными поместьями, им была обеспечена монополия торговли и коммерции. По крайней мере, на землях королевских владений крестьяне были уверены в передаче имения по наследству и получали постепенное облегчение труда и работы прислугой, и даже в частных поместьях король стремился защитить их от лишения собственности. При всем этом, однако, невозможно избежать вывода, что отношение и Фридриха Вильгельма I, и его сына к этим классам можно свести к меткому выражению Србика, как к «наполняющей государство материи, лишенной самосознания»43 – то есть совокупности индивидуумов без личных желаний или устремлений, с которыми требовалось считаться. От них ожидалось, что они будут служить государству и его военным учреждениям с нерушимой верностью, беспрекословно исполнять спущенные сверху приказы, а в остальном от них не ожидали и им не позволяли заниматься теми вопросами высокой политики, которые решал король и которые претворяла в жизнь его армия. Когда комендант Берлина, испытав первый шок от поражения под Йеной, опубликовал прокламацию, гласившую: «Король проиграл битву; спокойствие – первая обязанность гражданина!», он бессознательно написал комментарий об отношении просвещенного деспотизма к массе своих подданных. Они были объектами правительства, а не его участниками, их долей в деятельности государства было право повиноваться.
Если предположить, что буржуазия по преимуществу узка во взглядах, подчинялась власти и интересовалась только прибылью, а крестьянство по большей части представляло собой грубую массу без честолюбия, то усовершенствованный ранними Гогенцоллернами политический и социальный строй предназначался для того, чтобы увековечить, а не исправить эти недостатки. Жесткое социальное расслоение и столь же стремительно централизованное управление препятствовали развитию индивидуальной инициативы, патернализм системы остановил и убил энергию, которая могла бы послужить государству. Даже хваленая прусская бюрократия не была защищена от этой удушливой атмосферы. Созданная для обслуживания армии и удовлетворения ее потребностей, государственная гражданская служба управлялась в соответствии с военными принципами званий и дисциплины44. Во времена Фридриха Вильгельма I, как писал историк прусской бюрократии, государственные министры, как и полковники, беспрекословно подчинялись и выполняли приказы с военной точностью и пунктуальностью… Каждый министр был вынужден в своих интересах поддерживать в своем ведомстве тот же строгий дух порядка, пунктуальности и быстроты, который король навязывал своим министрам… Никогда прежде чиновникам не внушали так настойчиво и так непрестанно, что они несут личную ответственность, и никогда прежде личная ответственность не применялась так строго45.
Фридрих Великий еще больше ужесточил дисциплину государственной службы. Доведя личное участие в управлении до крайности, он оставил за собой право принимать решения по всем аспектам государственных дел и был склонен увольнять чиновников, у которых были собственные идеи. В результате он лишил бюрократию той самостоятельности, которая является опорой эффективности, и оставил ее бездушной корпорацией, политически нейтральной и лишенной самостоятельной воли46.
Чтобы рассеять приевшуюся атмосферу патернализма и открыть путь для развития скрытых сил буржуазии и низов, потребовались бы коренные реформы не только в государственном управлении, но и в социальной организации прусского народа. Но в конечном счете, пока Пруссия была военным государством, сам престиж армии делал такую реформу невозможной. Трудно, например, утверждать, что чрезмерная дисциплина вредна для государственной службы или, если на то пошло, для прусского народа, когда дисциплина прусских войск на поле боя вызывала восхищение даже у противников Пруссии. Нельзя было надеяться на какие-либо реальные меры социальной реформы, пока единство офицерского корпуса зависело от защиты феодальных прав дворянина-собственника или пока наследственное крепостное право оставалось основой кантональной системы47. Армия сформировала государство под свои нужды, теперь это было главным препятствием для любых политических или социальных изменений. Однако при жизни Фридриха эту основополагающую истину мало признавали и преобладающую роль военных в государстве практически не критиковали. Случайный интеллектуал мог сбежать из королевства, крича, – как ранее Винкельман, – что Пруссия – это гигантский гарнизон, в котором искусство и литература невозможны, и что «лучше быть обрезанным турком, нежели пруссаком»48. Случайный член городского совета мог протестовать перед правительством против унижений гражданских жителей местными гарнизонными войсками или против высокомерного поведения грубых лейтенантов из равнинных земель49. Однако никакого организованного движения протеста против положения армии, да и вообще против каких-либо других особенностей авторитарной системы не было. Низшие классы принимали навязываемые им условия по большей части безразлично, в то время как высшие чиновники и вообще образованные классы сохраняли уверенность в том, что существующий политический и общественный строй – самый эффективный и просвещенный в Европе.
С предельной ясностью это проявилось, когда в 1789 году во Франции вспыхнула революция50. Первой реакцией прусских правительственных чиновников на это событие был высокомерный вывод, что революция – это просто попытка применить во Франции принципы порядка и эффективности, характерные для прусской администрации. В первые годы революции литературное общество высших чинов, руководящих представителей духовенства и берлинской интеллигенции «Миттвохгезеллыпафт» провело ряд собраний, на которых с интересом и всеобщим одобрением обсуждались события во Франции, однако его члены не были склонны проводить какие-либо неблагоприятные сравнения между новой Францией и старой Пруссией. Для них Пруссия была далеко не деспотическим государством, а государством, которое гарантировало свободу и благополучие своим подданным, и поэтому его власть нельзя сравнить с той, что свергли в Париже. В 1790 году Карл Мангельсдорф, профессор истории Кёнигсбергского университета, писал, что французы имели полное право восстать против заведомо невыносимого режима, однако гражданское неповиновение подобного рода ненавистно пруссакам, «народу, счастье которого не поддается описанию»51.
Таким образом, революция во Франции оставалась интересной драмой, но не считалась поучительной. Даже такая вызывающая акция, как отмена феодальных привилегий французской знати, не смогла пробудить стремление к аналогичным реформам в Пруссии, в то время как зрелище французской буржуазии, играющей активную роль в политике своей страны, по-видимому, не пробудило никакого духа подражания52. И здесь можно с уверенностью сказать, что не было осознания одного из самых значительных результатов переворота во Франции, а именно того, что французское государство, позволив своим подданным полностью разделить его судьбы, завоевало новые важные ресурсы народной энергии и национальной преданности. То, что Пруссия могла бы и в своих собственных интересах извлечь выгоду из французского примера, проведя политические и социальные реформы, не было даже смутно замечено. Среди чиновников и образованных классов господствовало мнение, что прусская монархия достигла высшей степени совершенства и не требует улучшения53.
Это чувство непобедимого превосходства сохранялось в первые годы революции и не поколебалось участием Пруссии в кампаниях против Франции 1792–1795 годов – войне, которая, впрочем, никогда в Пруссии популярностью не пользовалась и не отмечена решающими сражениями. Его необоснованность проявилась лишь в 1806 году, когда между Пруссией и новой Францией произошло настоящее столкновение. В 1806 году вскрылись все основные слабости абсолютистской системы. Когда победоносные армии Бонапарта вошли в Берлин после сражений при Йене и Ауэрштадте, их приветствовали у Бранденбургских ворот представители берлинского магистрата и местные купцы, городские власти добровольно согласились продолжать свои услуги завоевателю, а берлинцы безропотно служили в организованной французами национальной гвардии. Такой же прием был оказан французам и в других прусских городах, признаков даже пассивного сопротивления иностранцам практически не наблюдалось, а прусская пресса отнеслась к разрушительным событиям недавней кампании столь же равнодушно, как если бы писала о войне между персидским шахом и эмиром Кабула54.
Однако эта реакция не была, как настаивают некоторые писатели, результатом распространения революционных идей среди буржуазии или коварного влияния масонства и французской безнравственности55. Скорее, это было естественным следствием недостатков политических и социальных принципов старого режима в Пруссии. Если народ привык слепо подчиняться власти, он без труда перенесет свою преданность от одной власти к другой. Организационная структура абсолютистского военного государства не позволяла представителям среднего и низшего классов в каком-либо реальном смысле идентифицировать себя с государственной машиной. Когда эта машина рухнула, оказалось вполне естественным, что им пришлось принять этот факт и приспосабливать свою узкую жизнь к новым навязанным им обстоятельствам.


