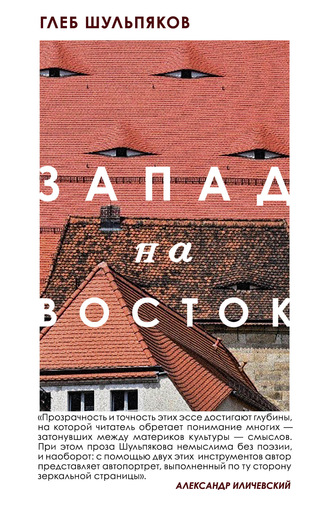
Глеб Шульпяков
Запад на Восток
Фото на обложке – Глеб Шульпяков
Фото из архива автора
© Шульпяков Г., текст, 2020
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020
Часть 1
Моя счастливая деревня
Современный человек не успевает за временем – декорации меняются быстрее, чем он может привыкнуть. Ни в памяти, ни в мыслях ничего не остается. Прошлое пусто, и даже вещи исчезают из обихода, так и не состарившись.
«Куда все исчезло? Зачем было?»
Лейтмотив жизни.
В прошлом году я купил избу в деревне. В нашей деревне нет мобильной связи, нигде и никакой. Правда, Лёха (он же Лёнька) утверждает, что одна палка бывает за избой Шлёпы. И вот я брожу вокруг заросшей заброшенной избы, пока не распарываю сапог.
Не ловит.
Первое время ладонь машинально проверяет карман, но вскоре о телефоне забыто. Я вспоминаю про трубку, когда пора выходить на связь. Телефон валяется в дровах – наверное, выпал из кармана, когда я возился с печкой. С изумлением Робинзона разглядываю мертвый экран. Какое нелепое устройство!
Я пропадаю в деревне неделями, и связь мне все-таки требуется. Доложить своим, что жив-здоров, не голодаю и не мерзну. Что не был подвергнут нападению хищников, не утонул в болоте и не свалился в колодец, не покалечил себя топором или вилами, не угорел в бане и не подрался с Лёхой-Лёнькой.
«Главное, дождись, чтобы угли прогорели…»
«Ложный гриб на разрезе темнеет…»
«Воду кипяти…»
«Топор ночью в доме – на всякий случай…»
«Клади от мышей сверху камень…»
Наивные люди.
Мобильная связь есть на Сергейковской Горке, но там ловит чужой оператор. Мой ловит в сторону Фирова, но туда в слякоть плохая дорога – ее разбили лесовозами, когда воровали лес. И вот спустя месяц я узнаю, что связь есть еще в одном месте.
Там работают все операторы.
В нашей деревне шесть изб, это тупик, хутор. Две семьи живут круглый год, одна съезжает на зиму в Волочек, в двух избах наездами дачники (я и еще один тип, писатель-старожил). Крайняя, Шлёпина, пустует.
– А где хозяин?
– Удавился, – безразлично отвечает Лёха.
Еще есть лошадь Даша, корова, теленок и две собаки. Одна собака, Лёхина, похожа на героя из мультфильма, такая же черная и осунувшаяся, с седыми проплешинами. Про себя я называю ее Волчок. Он сидит на привязи и выскакивает над забором, когда проходишь мимо, – как черт из табакерки. А вторую зовут Ветка, она бегает свободно.
Через лес в деревню ведет аллея от главной дороги, на углу которой кладбище. Погост, каких в любой области множество, полузаброшен, кресты торчат из крапивы. Сквозь буйную, особой кладбищенской сочности зелень поблескивает облупленная эмаль и чернеет ржавчина. Куски кирпичной кладки: тут была церковная ограда.
Пейзаж под стать погосту: первое время ощущение его нищенской скудности угнетает меня. Зачем я сюда забрался? Но это впечатление, разумеется, мнимое. Чтобы ощутить подспудное, замкнутое в себе и на себе обаяние этих земель, несравнимое с картинными косогорами где-нибудь в Орловской области – или полями за Владимиром, – надо забыть про пейзаж; ничего не ждать от него и не требовать.
Рельеф стелющийся, его верхняя линия занижена – так выглядит невысокий сарай, заросший травой, или изба, наполовину ушедшая в землю, и возникает чувство неловкости; несоразмерности себя тому, что видишь, на фоне чего находишься. Лес непролазен и густ, настоящий бурелом. Облака висят настолько низко, что хочется пригнуть голову. Пейзажные линии нигде не сходятся и ничего, что можно назвать картиной природы, не образуют. Такое ощущение, что сюда свалили выбракованные и разрозненные элементы других пейзажей.
Но в действительности мы на вершине огромного геологического купола.
Высшая точка Валдайской возвышенности (346,9 метра над уровнем моря) находится в соседней деревне, то есть моя изба – страшно подумать – возвышается над Москвой на высоту шпиля МГУ. И тогда все становится понятным. Бесконечный спуск, этот складчатый скат, по которому сползают леса и пригорки, – отсюда; и вид его, и характер – фрагментарный, как пейзаж в долине горного перевала, – тоже. Здесь склон ли, горка – всё спуск. Ощущение высоты настигает внезапно, в точке, откуда рельеф выстреливает, как пружина. Таких мест немного, но они есть; специально открыть их невозможно, хотя пару деревень на холмах с абсолютно гималайскими видами я знаю. Нет, ты просто случайно выбредаешь на край огромной пустоши и – раз! – покатились из-под ног валики холмов, сдвинулась ширма леса; отъехал за горизонт задник; огромная, с хребет сказочного кита, сцена открылась; и этого кита – с перелесками и деревнями на хребте – видно.
…Кит, сцена, ширма – да. Но! Требовались конкретные ориентиры, зарубки. Засечки на местности, опознавательные знаки. Не проскочить поворот, не проехать развилку, не угодить в выбоину. Вот римские руины Льнозавода – значит, скоро «проблемный участок дороги». А вот двухъярусная церковь, вернее, что от нее осталось (короб), – тут развилка.
Заброшенный Дом культуры, через дорогу сельпо.
У дороги мелькает памятный крест из арматуры.
– Шлёпу насмерть… – мрачно комментирует Лёха-Лёнька. – Машиной.
Я послушно давлю на сигнал.
За карьером поворот, там кладбище и последний отрезок. Я вкатываюсь на едва заметную в темноте аллею, притормаживаю. На кладбище чья-то фигура бродит между могил, приложив к щеке руку. Я выключаю фары и прислушиваюсь. Призрак разговаривает вполголоса, его лицо, подсвеченное голубым светом, мерцает в темноте, как медуза. Потом огонек гаснет, а на дороге раздается шорох. Человек, поднявшийся на шоссе, уходит.
Я машинально лезу за телефоном (невроз, знакомый каждому).
Сигнал есть!
Изба есть механизм, усваивающий время; так мне, во всяком случае, представляется. Естественное старение материала – то, как оседают венцы или замысловато тянется трещина; как уходит в землю валун, на котором крыльцо; как древесина становится камнем, куда уже не вобьешь гвозди, – во всем этом есть время, его равномерное, слой за слоем, откладывание в прошлое. Туда, откуда, как из годовых колец дерево, складываются настоящее и будущее. К тому же Лёха-Лёнька, его алкогольные циклы – их амплитуда тоже поражает почти природным своим постоянством. Знать эту амплитуду мне крайне важно, ведь на Лёхе в деревне электрика, дрова, вода, печи, лошадь и т. д. Она хорошо считывается с первым снегом. Если следы ведут от избы к баньке, значит, сосед «выхаживается». Если снег протоптан к соседской избе – Лёха на старте, он жаждет общения и пару дней еще будет вязать лыко. Если следы в лес, Лёха не пьет, рубит лес. Ну а если в деревне беспорядочно натоптано – как, например, сегодня, – Лёха на пике.
В этот промежуток он не столько опасен, сколько назойлив, и, чтобы избавиться от его общества, я всегда держу в багажнике пузырь водки и баклажку пива. Водку надо сунуть вечером, когда он подкатит к «барину» «с приездом». Она «прибьет» его на ночь. А пиво – на утро, поскольку с похмелюги он притащится под окна, как только увидит дымок над крышей («Кто поил Лёху?»). Досуг следующего вечера он, как правило, организует себе сам, то есть попросту исчезает.
Мой деревенский быт незначительный, но докучный. Серьезных дел нет, но натаскать и вымести, заткнуть и высушить, приподнять и подпереть, заменить и настроить, протопить – и так далее, и так далее. Время в таких делах летит незаметно. Вот соседка Таня в лес пошла – а вот уже возвращается с полной корзиной. Только что улетучился с поля утренний туман, пористый и прозрачный, – как с другого конца уже наползает густой вечерний. Но странное дело, это необременительное, быстрое время, наполненное незначительными мелочами – время, утекающее незаметно и безболезненно, – оставляет в тебе ощущение весомости и значимости. Никакими подвигами не отмеченное, оно не уходит в песок, не проходит даром – как то, городское время. А попадает прямиком в прошлое, в его подпол, где и накапливается, и зреет.
И тут Лёха говорит мне:
– Послушай Лёху, сходи на кладбище. – Во время запоя он переходит на третье лицо. – Лёха плохого не посоветует.
В старом ватнике, который стоит на спине колом, Лёха похож на горбатого. В кармане булькает разведенный спирт: основное деревенское пойло. В горсти конфетка.
– Чё ты мучаешься!
Прикладывается, утирает рот рукавом.
Тычет потухшей спичкой в сторону просёлка.
В лесу темно, но когда просёлок выходит на аллею, видны макушки сосен, выкрашенные закатом в рыжий. Эта аллея – береза-сосна, береза-сосна – «барская», ее высадили для прогулок через поле. Так, по крайней мере, говорит легенда. Поле давно заросло березовой рощей, от усадьбы остались четыре стены и пруд с ключами, а старые деревья, кривые и корявые, еще стоят.
По дороге на кладбище мне нравится воображать, как хорошо было бы продолжить аллею до нашего хутора. В деревне первое время люди вообще немного Маниловы, так что список неотложных планов у меня огромный. Например, мне обязательно надо:
– обустроить родник;
– сделать на речке купальню;
– пристроить к избе веранду;
– поставить баню;
– залатать протекающую крышу (срочно!).
И соорудить на поле буддийскую ступу.
Чтобы залатать крышу, надо найти непьющего мужика, потому что у пьющего «нет времени» плюс «страхи» – на крышу он не полезет, побоится упасть (притом что еще вчера этот человек сутки провалялся в канаве при ночных заморозках). И вот большая удача: спустя неделю разъездов непьющий найден. Это Фока, он же Володя – мужик лет пятидесяти, живущий за Льнозаводом.
– Ендова! – радостно рычит Фока, озирая крышу. – Ендова у тебя текуть, понял?
«Какие ендова?»
Фока складывает «ендова» из газеты и объясняет, как они устроены и что для их перекрытия надо перестилать весь скат. Я слежу за его большими узловатыми пальцами, настоящими клешнями – это руки человека, который умеет держать инструмент.
Когда я приезжаю через неделю, Фока с парнишкой все перекрыли. Мы рассчитываемся. Складывая купюры в кошелек, Фока говорит, что собрался жениться и немного нервничает.
– Молодая, из города. Надо купить в машину музыку…
Я желаю ему удачи.
Осенью я сажаю за домом сосенку. Ендова и сосенка – на этом моя маниловщина кончается. Больше ничего предпринимать не буду, ну их. Так на человека действует великая инерция деревенской жизни. Сила, накопленная веками, которая противится любому начинанию, если это начинание не имеет прямого отношения к насущному, то есть к теплу и пище.
Однако баня просто необходима. К соседу не набегаешься, неловко – а поставить новый сруб дорого. Есть еще вариант: можно взять старую, одна такая, заброшенная, есть в соседней деревне, и вот мы – я и Лёха – едем туда. На вид баня очень страшная, она вся в саже (топили по-черному), кривая, со съехавшей набекрень крышей и дырами окон. Но Лёха невозмутим. Если поменять пару венцов, говорит он, и поставить новую печку, будет нормально.
– А чья это баня-то?
– Шлёпина.
Пауза.
– Угорел по пьяни.
На кладбище темно, над головой шумят березы.
Вытянув руку с трубкой, иду, как сапер, вдоль оград.
Ничего, ноль. Снова пусто.
Делаю шаг между травяных холмиков, огибаю одну могилу, вторую. В трубке слышно потрескивание, какие-то потусторонние шорохи. Кажется, сигнал между заброшенным деревенским погостом и столицей вот-вот наладится.
Так и есть.
«Алло!» – наконец раздается на том конце.
«Ал-ло!»
Через пятки, упертые в натопленную лежанку, тепло растекается по телу. Мухи проснулись, жужжат – значит, изба натоплена как надо, можно читать хоть до вечера. И я читаю. Это «Философия общего дела» Николая Федорова.
«…призываются все люди к познанию себя сынами, внуками, потомками предков. И такое познание есть история, не знающая людей недостойных памяти…»
«…истинно мировая скорбь есть сокрушение о недостатке любви к отцам и об излишке любви к себе самим; это скорбь о падении мира, об удалении сына от отца, следствия от причины…»
«…единство без слияния, различие без розни есть точное определение “сознания” и “жизни”…»
«…если религия есть культ предков, или совокупная молитва всех живущих о всех умерших, то в настоящее время нет религии, ибо при церквах уже нет кладбищ, а на самих кладбищах царствует мерзость запустения…»
«…для кладбищ, как и для музеев, недостаточно быть только хранилищем, местом хранения…»
«…запустение кладбищ есть естественное следствие упадка родства и превращение его в гражданство… кто же должен заботиться о памятниках, кто должен возвратить сердца сынов отцам? Кто должен восстановить смысл памятников?»
«…для спасения кладбищ нужен переворот радикальный, нужно центр тяжести общества перенести на кладбище…»
Речь в книге густая, неразрывная – мысль рассеяна по каждой капсуле, вытащить цитату практически невозможно. Да и вне речи фраза выглядит нелепо, вздорно (что значит «перенести жизнь на кладбище»? как вы себе это представляете?). Между тем речь в «Философии…» не оставляет сомнения в абсолютной, неоспоримой истинности. Завораживает именно это убеждение Федорова в собственной правоте. Не умозрительной, логическо, – а внутренней, как будто это вопрос его жизни и смерти, буквально.
Но почему этот вопрос не дает мне покоя тоже?
«Почему, – спрашиваю я себя, – когда стали переиздавать русскую философию, Николай Федоров прошел мимо меня? Почему я не заметил его?»
Я вспоминаю конец восьмидесятых, девяностые: настоящий книжный бум. Толпы у лотков, очереди в магазинах. «Кого я читал тогда?» Это был Бердяев – конечно. На газетной бумаге, в мягких обложках, многотысячными тиражами, которых все равно не хватало. Я читал его как откровение.
«Так вот в какой стране я живу…»
«Вот какой у нее замысел».
В отделах обмена книгами (были такие при букинистах) Бердяева можно было выменять на Агату Кристи или Чейза. Прекрасно помню это ощущение – превращение воды в вино, ничего в золото. Или купить шальной экземпляр в газетном киоске на Пушкинской, где «Московские новости». Но почему именно Бердяев? Почему сначала он, а после другие (Розанов, Лосев, Флоренский, Шпет)? Я объясняю это довольно просто – тем, что юноше требовалось обоснование страны, ее смысл. Юноше казалось, что связь с той страной сразу после распада Империи Зла восстановится, и у меня появится великое прошлое, – ведь то, что я учил в «Истории СССР-КПСС», прошлым я назвать никак не мог. Мне казалось, что с падением СССР программа по реализации сверхзамысла страны, о котором говорил Бердяев, включится автоматически. Не может не включиться – после того как они тут жили. А тут Федоров, музей на кладбищах. Сыны, отцы. Троица. Неурожаи. Слишком фантасмагорично – и вместе с тем уж очень обыденно, бытово. По сравнению с бердяевским-то волхвованием о судьбах Родины, о сверхидеях. О миссии.
Но проходит четверть века, и круг замыкается. Страна с пугающей покорностью погружается в нищий совок, изредка прерываемый маленькими «победоносными» войнами, терактами, обвалами рубля, олимпиадами, эпидемиями и показательными судилищами. Сквозь наспех, легкими чернилами набросанный в 90-х текст «новой, свободной России» в людях старшего поколения все отчетливее проступают старые, вбитые в комсомольской юности тошнотворные догмы. У них опять «собственная гордость», они опять «впереди планеты всей». То ярче, то тусклее эти лозунги. Но они есть, никуда не делись. Сохранились – там, на самом жестком из дисков сознания. Ничего другого эти люди так и не приобрели за все отпущенное время; остались со своим недалеким прошлым; предпочли его будущему.
Давно забыты и Бердяев, и Розанов, и Флоренский. Нет иллюзий, что история может пойти в ту сторону, куда они показывали. Что русский европеизм возможен не только в отдельных умах, не исключительно на бумаге. Пророком оказался не Достоевский, а Чаадаев. Миссия невыполнима – нет ни объекта, ни субъекта этой миссии. Старый материал безвозвратно уничтожен, а новый видоизменен, какая уж тут миссия? После всего, что случилось за последние двадцать лет, и что происходит сейчас, сегодня – сомнений у меня не осталось.
Простите, отцы-философы, – не оправдали.
И вот однажды по дороге в деревню я заезжаю в Торжок. Я покупаю продукты, а заодно заглядываю в книжный (деревня возвращает наслаждение чтением). И мне случайно попадается томик Федорова. Боже мой, как все просто и правильно! Как точно – стоит поменять «кладбище» на «прошлое» («…для спасения прошлого нужен переворот радикальный, нужно центр тяжести общества перенести в прошлое…»).
«А где мое прошлое?»
«Кто наследует этот заброшенный погост и разрушенную церковь?»
«Льнозавод и Дом культуры?»
«Гнилые избы?»
«Кто наследник времени, когда все это стояло нетронутым?»
«А кто – когда было разрушено?»
«Какое прошлое брать за основу, за точку отсчета?»
А еще я вижу, откуда в нашем человеке эта страсть – обнулять прошлое. Раньше я готов был иронично объяснить этот феномен всеобщим российским пьянством (по принципу «вчерашнее лучше не вспоминать»), но, боюсь, тут вещи посильнее.
И еще один вопрос: если это не наше кладбище – то где наше кладбище?
Деревья в небе обметаны звездами, они сидят на ветках, как птицы. За лесом стучит карьер, подчеркивая тишину, которая в этих местах просто оглушающая. Человек живет прошлым, говорю я себе. Причем буквально, бытово – прошлым, как накопленным опытом. Ничего, кроме собственного опыта, читай прошлого, у человека просто нет. И этот опыт, это прошлое есть макет будущего, ведь каждый твой шаг во времени мотивирован опытом. Но точно так же живут и общества, и страны. Стоят цивилизации. Объявляя отношение к прошлому, ты показываешь расчетное будущее; то, чему берешься соответствовать, чего придерживаться. Есть страны, где сносят памятники одной эпохи, чтобы поставить памятники другой, – бывшая советская Средняя Азия, например. И мне понятно, куда такая страна движется. В странах Европы каждый кирпич пронумерован, прошлое не сдвинешь с места – и тут тоже все ясно. Но что ждать от страны, прошлое которой в таком состоянии? Полуразрушенное или недовосстановленное, не до конца уничтоженное или полузаброшенное, мерцающее – оно дает прекрасную возможность не отвечать за сегодня и завтра. Такое прошлое можно подминать под себя и трактовать, как удобно. По ситуации. А что? Ноу-хау нашего времени, Федорову и не снилось.
Сознание живет памятью – ну в том числе. Усилием обрести, восстановить прошлое. Это одна из высших форм его активности, способ существования и самовоспроизведения. Особенно если рассматривать эту активность без эмоциональной нагрузки. Но отказаться от этой нагрузки – от эмоций, связанных с прошлым, – я тоже не могу. Не хочу, не желаю! Это одна из форм моей душевной жизни, причем самая жизнетворная. Из тех, которые держат на поверхности, в жизни. Можно обнулить прошлое, лишить память материала, а сознание – формы жизни. Можно вытеснить переживание любой потери, включая главную потерю – прошлого (или отцов, как сказал бы Федоров), позитивным раздражителем, лишь бы этот раздражитель поступал бесперебойно, как в потребительских обществах и бывает. И тогда не нужно будет никаких кладбищ, никакого прошлого. Но готов ли человек при здравом размышлении согласиться на это? Готов ли перестать быть человеком?
Федоров говорил: общая память о прошлом делает людей «едиными», но не «слитными», «различными», но не «розными». Между прочим, на этой гениальной по простоте идее стоят современные цивилизации. Но философ не мог предвидеть масштаба генетической катастрофы советских лет, да и послесоветского смешения народов никто не предсказывал. Той великой миграции, обнулившей прошлое эллинов и иудеев и перемешавшей их. Что считает своим прошлым московский дворник из Туркмении? Новосибирский клерк из Пензы? Где свое кладбище у питерского художника из Баку или подмосковного поэта из Ташкента?
И тут я слышу Лёхин голос.
– А чё? – хрипит он. – Лёхе можно, к Лёхе друг приехал…
Ковыляя в мою сторону, он зачерпывает сапогами невидимые лужи. Забравшись на пригорок, он садится на корточки и достает бутылку. Выпивает и, раскачиваясь, закуривает. Мы молча смотрим, как на поле выползает вечерний туман – длинными войлочными косами. В тумане бродит лошадь, но отсюда видно только ее голову и круп. Верхушки деревьев на розовом небе постепенно сливаются в черную строчку, набранную готическим шрифтом.
Зрелище невероятно картинное, эталонное, сошедшее с экрана – и вместе с тем натуральное, с комарами и запахами, Лёхиными хрипами и далеким стуком карьера. И от всего этого, несовместимого, но и зримого, наглядного, голова кружится.
– А чё ты один-то? Чё без друга?
Я невольно перенимаю его интонации.
– Порнушку смотрит.
Он оглядывает меня:
– Сходи посмотри, чё ты…
Я готов к худшему, но нет, в избе натоплено и чисто. Никакого алкоголического разора, только след общей скудости, истонченности, «застиранности» жизни лежит на предметах. За печкой в кухне возится Лёхина мать. О том, что Лёха живет со старухой-матерью, я узнал совсем недавно – в деревне ее было совсем не видно. Да и Лёхино прошлое я тоже узнаю по обмолвкам. Вроде работал в Волочке на заводе, пока тот не закрылся; когда пропил все, что имел в городе, и жена его выгнала, перебрался к матери на ПМЖ («пока мать жива»). Этот вариант в деревне самый распространенный: можно пить, не работая, пока есть материнская пенсия (баклажка спирта стоит полтинник, закуска растет в огороде, дрова стоят в лесу бесплатно – что еще?). Если мать пьет вместе с сыном, шансы на выживание у них равные, то есть равно минимальные. Если не пьет, сын погибает раньше.
Из комнаты налево действительно долетают недвусмысленные стоны. Я отодвигаю занавеску, там никого – только перед телевизором, где содрогаются тела, стоит стул.
– Понравилось?
Лёха сидит в той же позе, но уже по колено в тумане.
– Как друга-то зовут?
– Шлёпа.
Утром, слезая с кровати, опускаешь ноги в выстуженный, обжигающий воздух. Это первые заморозки, но с вечера я набил лежанку дровами, и теперь они, легкие и высохшие, занимаются от первой спички. Пока печка топится, можно полежать еще – пока не нагреется воздух. Но вставать надо, ведь сегодня мы едем за Люсей. Так мы решили, дачники, – поселить в деревне Люську, поскольку в этот раз на зиму в город съедут все, кроме Лёхи, а оставлять на Лёху лошадь (да и вообще оставлять Лёху) опасно. А Люся – баба надежная, умелая. У себя в деревне ей живется не очень, поскольку функции одинокой бабы – давать в долг на водку или наливать самой – она выполнять не хочет. Вот мы и предлагаем ей перезимовать у нас, где никого и тихо.
– Вот разве что Лёха… – говорю я.
– Со скотиной язык имеется… – кивает Люся.
Я вопросительно смотрю на соседа. Когда Люся ныряет в подпол, тот рассказывает, что в прошлой жизни она была скотницей, то есть работала кнутом и окриком, поэтому алкаши ее побаиваются.
– Проблем не будет, мальчишки.
Из подпола высовывается ее кудлатая голова: Люся довольна осмотром. И «мальчишки» перевозят ее кота и транзистор, десяток цветочных горшков и кастрюли, валенки и лыжи. А Люся с треском едет на своем антикварном велосипеде по первому льду, покрывшему лужи.
– Люсь, посуда. – Я открываю створки. – Пользуйся.
– У меня свое, мальчик.
В сенях на лавке выстраиваются банки с соленьями. На окна и печку Люся вешает пестрые занавески: в избе сразу становится уютно. Настольная лампа, абажур. Цветы на окнах.
– А ну! – замахивается в окно.
Лёха отскакивает и, злобно бормоча, уходит.
Глядя, как ловко и аккуратно, деликатно обустроилась Люся, с какой легкостью принимает на себя такую обузу – зимовать в чужой избе, пасти чужую деревню, как неловко ей от того, что мы все еще сомневаемся в правильности того, что делаем, – я вдруг думаю, что перед нами, возможно, праведник. Тот самый, без которого не стоит село. Только такой вот, заемный. Арендованный.
В последний перед отъездом день сосед-старожил зовет покататься по окрестным деревням. Конечная точка – Федоров Двор. От нас туда километров двадцать, но по развороченным дорогам на это уйдет час. «Если вообще проедем…»
Дорога – две залитые водой ямы, где отражаются трава и макушки елей. Сосед перебирает рычажки в машине, как четки, и джип медленно, но уверенно карабкается. Мы встаем посреди огромной лесной прогалины. На взгорье лежит полоска леса. В траве несколько сосновых рощиц, как будто лес вокруг вырубили, а про эти сосны забыли. Постепенно глаз различает спрятанные в соснах курганы высотой метров около пяти-шести. Всего их пять, правильной формы – равнобедренный треугольник в разрезе. Кое-где курганы подкопаны.
– Зря старались. – Сосед закуривает. – В девятом веке сжигали, а не закапывали.
Я смотрю на серое низкое небо и на колышущуюся волнами сухую траву. На приземистый мрачный лес, торчащий из-за пригорка. Мне не слишком верится, что у такого пейзажа – у этой невзрачной, неуютной, холодной земли – может быть такое прошлое. Однако оно есть, и от этой мысли – и от сознания того, что рядом теперь есть и моя изба, мой кусок земли, часть моего прошлого, – на душе становится радостно и страшно.
Пригорки сменяются балками, холмы сбегают в настоящие ущелья. Я не верю глазам – на дне одного такого ущельица течет меж влажных валунов абсолютно горная, мелкая и ледяная, речка. Таких полно на Алтае, на Кавказе, – но здесь? Выше по течению, в кустах полощет белье женщина. Сосед гудит, она поднимает голову, улыбается. Мы здороваемся и едем дальше.
Деревня Федоров Двор стоит на макушке лысого холма. Склон подкатывает к нам по-театральному внезапно, как декорация на колесах. С третьей попытки, по спирали, мы наконец поднимаемся.
Я выхожу из машины.
За ущельем один за другим холмы. Красные, желтые, зеленые (клен, береза, ель – осень!) – они лежат, как на картинах у Рериха, насколько хватает взгляда, до горизонта. Над холмами низко ползут сливовые тучи, в разрывах бьет солнце, отчего холмы попеременно вспыхивают, как бывает, если на сцене в театре пробовать свет. Но с Осветителем, который поставил свет в этом спектакле, соревноваться бессмысленно, разумеется.
Я ловлю себя на ощущении, что впервые за много лет вижу красоту, которая для меня – как бы это сказать? – небезосновательна, потому что является частью реальности, живущей не только в настоящем времени – как все виденные мной доселе красоты мира. Именно эту реальность я приобрел вместе с избой – за бесценок, как и положено самым удивительным вещам в жизни. Именно в этой реальности сочетались вещи, неспособные уложиться в моем сознании еще год назад. И вот теперь это нелепое, неразумное, дикое сочетание языческих курганов и обреченных на вымирание деревень, гималайских просторов и заброшенных кладбищ с мобильной связью на могилах, этих алкоголических сумерек, где блуждают целые села – и людей вроде Фоки и Люси, благодаря которым эти деревни еще не до конца померкли, не вымерли, – именно это сочетание разбудило во мне то, что я мог бы назвать ощущением прошлого. Возможно, это ощущение иллюзорно – не знаю! Но даже если это так (а это, скорее всего, так) – мне хочется не терять эту иллюзию как можно дольше, а сохранить, растянуть ее, поскольку другой иллюзии, такой же глубокой и бескорыстной, у меня еще не было. Ведь лучше считать себя усыновленным полузабытой деревней – считать своим выморочное кладбище, – чем жить без прошлого или с тем прошлым, которое за тебя придумают другие. Потому что это спущенное сверху прошлое будет уж точно не в мою пользу.
Кстати, этот процесс идет быстрее, чем кажется.




