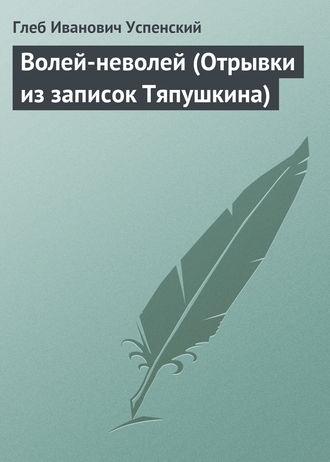
Глеб Иванович Успенский
Волей-неволей (Отрывки из записок Тяпушкина)
2
Прошлое, канувшее в вечность, на воспоминание о котором наводил старый барский дом, казалось действительно канувшим, и не для одного только меня. Все, кто жил в нем, чувствовали, что песня этого дома спета, что если еще и живут в нем люди, то это только так, «пока», между концом и неизвестным началом. Жила в нем теперь старая сестра умершего бездетным владельца, долгое время – чуть не всю жизнь – промаявшаяся на чужих хлебах и в домах богатой московской знати девица, в которой институтская наивность неприятно дополнялась знанием неприглядных будуарных тайн времен крепостного права. Этими тайнами с наивностью институтки она по временам делилась с своей сожительницей, молодой белокурой девушкой (насмешницей), которая была дочь брата покойного владельца, офицера, убитого в севастопольскую войну. Мать ее умерла также незадолго перед кончиною отца; и вот эти две случайные наследницы жили в большом, разваливающемся доме, не зная, что будет завтра и с ними и с этим домом, и зная притом совершенно несомненно, что старое безвозвратно ушло. И они были чужие этому дому, и дом был чужой для них. Не будь вокруг и около этого дома старых крепостных людей, для которых была невозможна даже мысль о том, что они свободны и должны считать себя вступившими в «новую эру», я, право, не знаю, была ли бы какая-нибудь возможность для обитательниц этого старого дома просто-напросто быть сытыми. Но оставались какие-то Михеичи, Авдотьи, старухи Пахомовны, оставались на тех же местах, где были и жили всю жизнь, и руки их продолжали делать то же, что делали прежде. Иные из них были дряхлы и стары, другие хоть и молоды, но не знали еще, как быть и куда деваться, И вот несет Пахомыч дров, Авдотья тащит самовар, древнейший кучер моет на дворе древнейший экипаж. Кто-то платит аренду, еще заключенную при покойнике, кто-то нет-нет да привезет сотню-другую за купленный лес. Из какого-то казначейства что-то тоже по временам высылают, причем иногда племянница и тетка с трудом разбирали: «кому это, мне или тебе?» Кое-как, благодаря тем же живым остаткам прошлого, создавшим кое-какой жизненный обиход помощью печения хлебов, пирогов, собирания и варения грибов и ягод, создавались и кой-какие обличия «господской» жизни. Тот же Пахомыч придет и скажет, что завтрашнего числа хорошо бы господам проехать в село Всесвятское, ибо там храмовой праздник; что не худо принять и угостить господина исправника, который сидит теперича у попа, что в такой-то день надо бы отслужить панихиду по покойникам, а в такой-то поставить на господском дворе качели и купить девкам пряников – так, мол, исстари заведено. Не будь этих Пахомычей и Аксиний – и люди, населявшие дом, и самый дом могли бы производить на посетителя впечатление только запустения, а при их попечении все-таки в этом доме журчала какая-то тощая струйка жизни. Иногда Пахомыч придет и «пожалуется» на Авдотью и даст таким образом возможность обитателям почувствовать, что они господа, что они хоть Авдотье могут дать нравоучение. Но вообще струйка жизни журчала здесь тихо-тихо… «Старая это жизнь, – думали все, – и ничего из нее уж не может выйти; это – срубленное дерево, на котором еще не совсем завяли листья». Старое и срубленное – это впечатление веяло отовсюду: из пустых конюшен, от гнилой крыши, от огромного пустого двора, от падавшей с потолка штукатурки, от этих старых портретов. Баба с грязными ногами и с кошелкой яиц, желая продать эти яйца господам, свободно шла с черного хода из одной комнаты в другую, из залы в гостиную, шла словно по улице, зная, что эта улица ничья. И все чувствовали, что действительно ничья. Молодой крестьянский парень, Пахомыча племяш, толкавшийся по дому и около дома «пока» без дела, пойдет на чердак, пороется, вытащит какие-то сапоги с ботфортами, наденет и придет к старой барыне: «Глянь-кось, ладно ли?» – «Чьи это?» – «Да там, на чердаке, валяются. Не знаю чьи». – «Ничего, хорошо!» – «Так я носить стану?» – «Носи, пожалуйста». Да и в самом деле, чьи эти сапоги теперь? Да и все в доме тоже неизвестно чье. И жил здесь народ, за исключением стариков, только так, пока. Хозяйки мечтали поехать и в город, и в Москву, и в Петербург, но так как определенно им не было известно, зачем собственно ехать, то и не ехали, да и денег что-то «не высылают», хотя должны же выслать когда-нибудь. Гуляли, разговаривали о старых московских сплетнях, о том, что Мишка отыскал на чердаке сапоги, о том, что нужно отслужить панихиду; опять гуляли, ели, скучали, раскладывали карты, говорили, что надо ехать в Москву, или, нет, в Петербург, или в город, потом шли смотреть теленка, которого бог послал, потом говорили о теленке, потом о попе, так как об нем зашел разговор благодаря какой-то бабе, потом о бабе, о ее муже. Так шли дни за днями «пока», то есть пока все это в самом деле кончится. И в самом деле, разве все это не должно кончиться? Разве можно что-нибудь оставить из всего этого? Здесь все было когда-то понятно и объяснимо, от этого кресла, от этого уродского портрета: до кнута, который висит теперь в бездействии на конюшне… Теперь, начиная с кнута, все здесь необъяснимо, все погребено, все напоминает молчание могилы. И вдруг вот из этой-то могилы появляются горячие, сдобные булки. «Сейчас из печи!» Если бы сам домовладелец, о котором у меня с детства остались тягостнейшие воспоминаний, встал из гроба и явился передо мною ночью, я бы не испугался его так, как напугался всей вереницы впечатлений, связанных с булками. «Уйти, уйти отсюда, – думал я, чувствуя настоятельность сделать это сейчас же, – уйти из дому, из деревни – «туда!», все тут обречено; страшно, гнило, ненужно, мертво»… Думая «уйти», я, однако, ни разу не подумал о том, как могло случиться, что я очутился в чужом, незнакомом доме, сплю на чужом диване, и сплю на нем почти без всякого приглашения? Так была прочна, непоколебима уверенность, что «все это кончилось», что в доме этом все «ничье», да и дом вместе с людьми «ничей». Он так же принадлежит им, как и мне, как и Пахомычу, как и бабе, которая принесла яйца и ходит по всему дому как по площади, А вот булки встревожили меня. Стало быть, тут что-то живет еще. И мне стало страшно и противно, и мысль «уйти» уж не давала мне заснуть вновь.
Я ушел, едва стало светло, едва где-то в доме хлопнула дверь, а со двора донеслись звуки раскалываемых дров. «Проснулись», – подумал я, и потихоньку ушел.
В тяжкой, безысходной тоске о своем положении провел я целый день в лачуге моей бабки, не зная, что делать, куда идти. Я чувствовал однако, что надо идти «сейчас», и к вечеру почти уж окончательно решил идти пешком в Москву, не зная, что еще я там буду делать и к кому обращусь. Но идти все-таки надо непременно, неотложно, и завтра непременно. Так я порешил и так сказал бабке. Оба мы, горемычные, сидели с ней вечером на крыльце и думали. Она охала, жалела меня, а я сидел, молчал и смотрел в сторону, терзаясь кручиною моей бабки: «Боже мой! – думал я, – как она добра, как у ней привыкло страдать сердце, сколько в ней сейчас, сию минуту, печали обо мне, сколько она уж пролила слез о моей участи… Но когда же она замолчит? Хоть бы она ожесточилась на меня, мне бы было в тысячу раз легче».
Мне было до того тяжело, что я положительно как ребенок обрадовался, увидав, что к нашему крыльцу подошли обитатели старого господского дома… И старая дева и дева юная вдруг появились из-за угла. Бабка засуетилась, впала мгновенно в рабское состояние, приглашая войти, но гости не вошли. Старая дева только поклонилась бабке, поклоном «путешествующей принцессы», а юная только посмотрела на мою старуху, посмотрела своими серыми бесцеремонными глазами и ела подсолнухи…
– Ну, вы! – сказала она мне, выплюнув шелуху и опуская руку в карман, очевидно за новой горстью деревенского лакомства, – извольте одеваться… Пойдемте!
– Я…
– Нечего! Я на босу ногу… Мне нельзя на сырости… – И она показала ногу, без чулка в туфле.
– Надевайте шапку, и марш!
И я надел шапку и пошел. И опять ночевал в чужом доме.
Утром я проспал; но проснувшись, тотчас оделся и хотел идти. Однако почему-то сел на тот же диван, на котором спал, и тяжело задумался. День был великолепный, и как бы пропорционально этому великолепию увеличивалась и моя тоска, тоска одиночества моего на белом свете, тоска пребывания в этой могиле старого прошлого, томящая жажда света и дела.
– Вы продрали, что ли, глаза-то? – послышалось за дверью.
И, не дождавшись ответа, появилась юная хозяйка с тем же взглядом, в том же свободно надетом ситцевом платье.
– Наденьте вот, – сказала она голосом опытных женщин, – эту рубашку… Я взяла у Васьки новую.
И какой-то комок, пролетев от двери близко около потолка, ударился мне в грудь. Это была кумачная рубашка.
– А то на вас противно смотреть.
Я нагнулся было, чтоб подхватить рубашку, соскользнувшую на пол, и в это время почувствовал новый удар чем-то мягким в голову.
– У вас, кажется, и чулок нет, пальцы вылезают. Вот вам Аксиньины.
В недоумении поднял я голову – и увидел дьявольски издевающееся лицо. Но это лицо я видел одну секунду, оно сейчас же сделалось опять просто бесцеремонным.
– И одеваться! Живо! у меня есть к вам серьезное дело.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Здесь в записках Тяпушкина следует большой перерыв; в тетради, из которой я их заимствую, после вышеприведенной сцены следует множество страниц с обозначением глав, названием их, началом в несколько строк, за которыми почти тотчас же следует перерыв: рисунок какой-нибудь рожи, какая-нибудь фраза, вроде: «Нет, вот Тургенев небойсь (?) – об этом не пишет!» Или: «Неужели это только золаизм и натурализм? Нет, это дело и горе общественное!» и т. д. Сколько можно понять из того, что удалось разобрать в этих отрывочных строчках, можно заключить, что Тяпушкин пробыл в старом доме всю весну, лето, и только в глубокую осень весь старый дом – то есть старая дева, юная дева и Тяпушкин – каким-то родом очутились в Петербурге. Наконец идет глава, написанная вся целиком, от первой строки до последней. Эту главу я и помещаю, придерживаясь моей нумерации, хотя в записках Тяпушкина она носит какую-то огромную римскую цифру.)
3
Есть у меня один приятель-фельдшер, человек весьма любопытный обилием философских теорий, роящихся у него в голове. Начнет что-нибудь рассказывать, (а рассказывать он любит, и преимущественно о женщинах и своих наблюдениях над ними) – и, не досказав до конца, ударится в философию. Необходимо остановить его и спросить, «чем же кончилось?» – иначе повествовательный интерес наблюдения или рассказа так и канет в бездну обобщений. Рассказывал он мне как-то недавно одну из таких любимых своих историй и, не досказав, принялся по обыкновению мудрствовать, а я также по обыкновению должен был прервать его и спросить:
– Но чем же кончилось?
Тогда философ остановился, несколько презрительно посмотрел на меня и сказал: – Какое же может быть в этом (?) – сомнение?
И опять, презрительно пожав плечами, прибавил:
– Мальчик и девочка! Одному восемь, другой пять… Кажется, это не требует никаких обобщений.
Вот и мне приходится тоже сказать о своей «истории».
Осенняя петербургская ночь, глухая, поздняя, темная. Все спит в нашей квартире, и в маленькой колыбели спит маленький ребенок, а я сижу неподалеку от него и думаю те самые черные думы, о которых я сказал в самом начале «первой главы, первой части»… Но для успокоения читателей скажу, что источник моих черных дум вовсе не черный; не ненависть и злоба, а, напротив, нечто совершенно на них не похожее, именно, необычайная любовь к этому маленькому существу, необычайная чувствительность к малейшим проявлениям жизни, обнаруживаемым этим существом. И вот эта-то необычайная чувствительность, обнаружившаяся во мне при появлении ребенка, и есть то главное, на что я хотел бы обратить внимание читателя, рассказывая возмутительный эпизод в моей жизни.
Выражаясь словами философа-фельдшера, «не может быть ни малейшего сомнения» в том, что ребенок – мой, и для меня и для всякого смертного, волей-неволей, должен быть предметом личного внимания, личной привязанности. Я мог бы, конечно, выбрать какой-нибудь другой пример, а не этот возмутительный факт, чтоб проверять на нем мою личную способность отзываться на мои личные побуждения, мою энергию, отстаивать мои личные права, критиковать окружающее, с точки зрения моих личных неудобств и личных желаний; но всякий другой пример был бы не так общедоступен, как тот, который я решился рассказать с величайшими усилиями.
Наконец, при том систематическом умерщвлении моей личности, о которой рассказано в прошлый раз, умерщвлении, основанном на впечатлениях целого порядка исторических явлений, обязательных для всероссийского человека, на впечатлениях систематически организованного воспитания, направленного к тому, чтобы личность «не пикнула», я едва бы мог найти какой-нибудь другой факт личной жизни, который бы так же сильно и с такой неотразимостью потребовал от меня всего того, что есть во мне моего человеческого, а не государственного, не служебного. Ребенок же именно и потребовал всего, полностью; он даже пробудил во мне меня, наложив лично на меня массу обязанностей, и, помимо моей воли, развернул предо мной массу прав, которых я должен бы был добиться ранее появления его на свет, чтобы эти обязанности выполнить «по-человечески»…
Так вот на первых же порах, когда это маленькое существо потребовало от меня «отчета» в силе и праве собственной моей личности, я моментально впал в какое-то невозможное состояние. Я вчера еще, даже сейчас, готов погибнуть там «за них», за нас, за общую гармонию, за общественное благообразие и справедливость, но отстаивать эту гармонию для себя – не могу! А вот именно этого-то и потребовал ребенок, этот невольный и самый неснисходительный пробудитель моего личного вопроса и личного интереса… «Там», работая вообще за «гармонию», в которой я лично ничего не означаю и ни за что лично не отвечаю, зная только, что эта работа – дело справедливое, я не чувствителен ни к каким ударам и язвам; здесь же, при деле, которое требует лично от меня ответа, я до чрезвычайности чувствителен, страдаю от малейшего прикосновения действительности, изнемогаю от малейшего сознания, что то или другое дело я должен делать для себя. «Мне не нужно, – вопию я, – таких широких прав, такой смелости жить на белом свете! я так, как-нибудь сам-то, а вот для общего дела….» Но маленькое существо требует этих прав для себя и совершенно меня уничтожает.
Один опытный крестьянин-охотник рассказывал мне, между прочим, про волков, и рассказ его коснулся, между прочим, совершенно неожиданной для меня черты волчьих нравов. Кто не привык представлять себе волка как злодея, который вечно голоден и вечно ищет кого поглотить? Но кто знает, что источник этой постоянной голодовки, этого вечного вытья с голоду есть именно чрезмерная чувствительность к своим личным нуждам и потребностям? Оказывается, что если волк беспрестанно рыщет и рвет на части овец и собак и все-таки никогда не бывает сыт, так основание к этому – чрезмерная любовь его к семейству. Он до того чувствителен к участи своих птенцов, к своей волчихе, что только ради ихнего спокойствия и рвет этих несчастных овец. Съев целую овцу, совсем с шерстью, до того, что ему нельзя дышать и ходить, он только и думает о том, чтобы кой-как добраться до дому и положить все съеденное к ногам своей супруги и детей… И едва положит, как та же непомерная впечатлительность к своему горю, к своему личному благополучию побуждает его вновь бежать в поле, где он, ни на минуту не забывая своих милых птенцов и свою милую волчиху, быть может весьма образованную и с религиозно-шампанским направлением мыслей, принимается рвать овец, собак, опустошать общественные кассы, банки и расхищать башкирские земли[16]. А в объяснение этого зверства, почти всегда со слезами на глазах, ссылается единственно только на нежность, на впечатлительность своего сердца. Один вид его Жоржика, этого хилого маленького существа, одна мысль о его будущности до того его мучает, терзает, печалит, что он лучше бы готов (по его собственным словам) камни таскать на улице, служить дворником, есть воблу и пить воду, только бы не переносить этих мучений. Именно от этой-то впечатлительности он и теряет голову и уж что творит – неизвестно, сам не помнит. «Мне самому, – говорит он в трезвые минуты жизни, то есть когда его семейство сыто и довольно, – мне самому ничего не нужно!»… И говорит это так убедительно, что, встретившись в эту минуту с овцой, умеет даже ее расположить в свою пользу; заговорить ее так, что та как со старым знакомым идет с ним рядом куда-нибудь в буерак и совершенно поддается его гуманному образу мыслей… Он умеет вести в такие минуты нежную, простую беседу, беседу по душе, говорить, что и «он сочувствует» (только бы не семейство), просит передать пять рублей в кассу для вспомоществования недостаточным слушательницам высших женских курсов (из тех, из «сундуковых» денег), шопотом спрашивает: «нет ли чего новенького?», вздыхает, говорит, что ему самое настоящее место «там», а не здесь, в этой пошлой борьбе из-за грошовых интересов с мужиками, которые только и думают, как бы ухлопать его, тогда как все его симпатии на их стороне… Словом, умеет до такой степени очаровать несчастную овцу, что та стоит недвижимо целые дни на том самом месте в буераке, где оставил ее приятный собеседник, и стоит до тех пор, пока какая-нибудь личная гадость, личная впечатлительность к страданиям маленького Жоржика не заставит его, против воли, съесть эту несчастную овцу.
Но этими чертами еще не исчерпывается чрезмерная впечатлительность волчьего сердца. По рассказу тех же опытных охотников, бывает так, что в минуты действительного и продолжительного голода, когда по поводу хищений назначаются сенаторские ревизии, сундуки запираются на замки, когда все овцы отгоняются на значительное расстояние и пастухи пристально их караулят, впечатлительность волчьего сердца, не изменяясь количеством, изменяется качеством… Жалость, чрезмерная скорбь, присущая этому сердцу, направляется уж не на Жоржика, а на себя; мысль о том, что ему, этому любящему отцу, придется погибнуть, до того щемит его сердце, что он невольно начинает бесконечно жалеть себя, ищет корень зла и находит, что он всем пожертвовал «семье», от семьи же заслужил всеобщее недоверие и в семье ожидает гибели. И он, жалеючи себя, начинает ожесточаться. «Не будь твоей дурацкой корреспонденции». – злобно рычит он на Жоржика, – ничего бы этого не было! – Для вас же, подлецов, я был зверем, и вы же даете знать своим писком гуртовщикам. Мерзавцы!» Он ожесточается все более и более, доносит уряднику о неблагонадежности своего сына и в конце концов съедает Жоржика без остатка. Но это еще не все.
Нередко такая жизнь заканчивается совершенно неожиданным образом: лишив из-за чрезмерной чувствительности собственного сердца тысячи овечьих матерей их ягнят, перервав глотки сотням телят и овец, вогнав в гроб «жену свою побоями», он отправляется собирать на построение храма божьего. Выбирает для подвига высшую, неземную, нейтральную цель, так как каждое прикосновение к живым людям, населяющим землю, напоминает о клочьях овечьей шерсти, вырванной с мясом, о перерванных горлах, об убитых, вбитых в гроб… И все благодаря чрезмерной впечатлительности личных желаний. Быть сытым нужно и собаке, не только волку, но собака уж шире развила свою личность и лично понимает необходимость благообразия общественных отношений: она кормит своих детей так же, как и всякая тварь, но делает это, предпочитая караулить тех же овец и овечьих детей, так же как и своих. Волку же кажется, что только его дети достойны любви чрезвычайной и что дети других только препятствуют полному удовлетворению его чувствительности; кажется, что только его Жоржик достоин глубочайшего внимания, а все другие Жоржики достойны «гигиенической скамейки»[17], так как они могут обидеть когда-нибудь его Жоржика.
Не утаю: когда дело дошло до личной моей ответственности перед маленьким существом, ребенком, сердце мое оказалось чувствительным именно в этом волчьем направлении. Все скверно и гадко в этом мире для такого существа (оно было, кажется, одно на всем свете, так как я в первое время забыл, что в Петербурге ежегодно родятся пятьдесят тысяч таких существ), все надо было бы стереть с лица земли, чтобы это существо могло просуществовать так, как ему следует. Это было первое впечатление, но оно тотчас же сменилось другим, именно, крайней робостью стирать что бы то ни было с лица земли. Это такая возня и такое безобразие, что лучше пусть все останется так, как есть, только Жоржик должен быть в особенном положении: от него должна быть отстранена всякая грязь, всякая правда жизни, всякая скорбь, вся эта отрава теорий, реформ, людского горя и т. д. Как это сделать? Нужно для его блага пожертвовать собой, покориться, принять всю черноту жизни на себя, сделать так, чтобы не орать во имя вообще реформы против «кушетки» вообще, а чтобы только Жоржика не драли. Вот как отозвалось на моем сердце первое личное дело, первая личная моя обязанность, первая проба предъявить размеры личной смелости жить на свете, личной опрятности отношений человеческих, личного уважения к личности других… И я пришел в неописанный ужас… А общее, то, за которое я с восхищением и с жаждой готов был погибнуть? Я и теперь готов погибнуть, даже ощущаю большую жажду, чем прежде, но от этого общего дела к моему личному делу – нет дороги, нет даже тропинки. Я стремлюсь погибнуть во благо общей гармонии, общего будущего счастья и благоустроения, но стремлюсь потому, что лично я уничтожен; уничтожен всем ходом истории, выпавшей на долю мне, русскому человеку. Личность мою уничтожили и византийство и татарщина, и петровщина: все это надвигалось на меня нежданно-негаданно, все говорило, что это нужно не для меня, а вообще для отечества, что мы вообще будем глупы и безобразны, если не догоним, не обгоним, не перегоним… Когда тут думать о своих каких-то правах, о достоинстве, о человечности отношений, о чести, когда что ни «улучшение быта» – то только слышно хрустение костей человеческих, словно кофей в кофейнице размалывают? Все это, как говорят, еще только фундамент, основание, постройка здания, а жить мы еще и не пробовали; только что русский человек, отдохнув от одного улучшения, сядет трубочку покурить, глядь, другое улучшение валит неведомо откуда. Пихай трубку в карман и полезай в кофейницу, если не удалось бежать во леса – леса дремучие.
Таким путем в тех российских жителях, которые попадали в кофейницу, не могло развиться по части эгоизма почти ничего; ни по отношению к себе, ни по отношению к другим русский человек не мог разработать более или менее широко чувствительности своего сердца, и оно осталось такое же маленькое, зверушечье, как и было в ту пору, как на него нагрянуло византийство. Но зато уверенность в необходимости жить, покоряясь чему-то не своему, чужому, тяжкому, служить, не думая о себе, какому-то, иногда совершенно неведомому, но надо всеми одинаково тяготеющему делу, уверенность в том, что эта тягота есть самая настоящая задача и цель жизни, – это в нас воспитано необыкновенно прочно.
Таким образом, благодаря нашей исторической участи, люди, попавшие в кофейницу, выработали из себя не единичные типы, а «массы», готовые на служение общему благу, общему делу, общей гармонии и правде человеческих отношений. Причем каждому в отдельности… ничего не нужно, и он может просуществовать кой-как – кой-как по части семейных, соседских, экономических отношений и удобств. Лично он перенесет всякую гадость, даже согласится сделать гадость просто из-за куска хлеба, оботрется после оплеухи и т. д. И отдохнет душою только выделе общем, совершенно поглощающем его личность. Не зваю, есть ли подобные черты в таких, например, общественных деятелях, как Бредло[18], Парнель. Мне думается, что Парнелю и дома, и для себя, и для семьи, и для Жоржика нужно то самое дело, которое он делает в парламенте; что парламентское, общественное дело начинается– у него дома, в нем самом, в личной потребности делать его, в личной жизни сердца, требующей таких именнл ощущений, как те, которые добываются его делом. Я думаю, что и Жоржику своему он скажет все, что делает и что думает, и в этих взглядах и воспитает его. Он потому и начинает проповедовать эти взгляды в парламенте, что это ему нужно, чтобы чувствовать себя самим собой. Точно так же и Бредло. Человека этого каждый год избивают по малой мере два раза в год и рвут на нем не менее двух сюртуков, и он все-таки идет опять туда же, зная, что его будут опять колотить до синяков и что он после этой бойни сляжет в постель, а может, и умрет. И здесь я думаю, что общественное дело, которое он делает, не покидает его дома, и б семье, и в обществе жены. Ему, его эгоизму, надобно добиться своего, и он прет, несмотря ни на что.
У нас же, напротив, есть множество общественных деятелей, которые и шире по взглядам, чем этот упорный, односторонний человек, и взгляды их справедливее, гуманнее по отношению к общественному благоустройству и благополучию; и стоят они за эти взгляды до такой степени ревностно, что малейшая литературная узость по отношению к их широте воззрений на народные массы, на свойства народного духа и т. д. волнует их самым подлинным образом. Они не хотят подать руки человеку, который усомнится хотя бы в общинном землевладении, а сами лично в то же время, для собственных делишек и Жоржиков, не стыдятся содержать откупа и кабаки. Не знаю, содержат ли кабаки Парнель и Бредло, а что касается нас, то позволю себе сделать маленькое отступление для того, чтобы привести весьма любопытный пример для только что сказанного.
Несколько лет тому назад, в Одессе, на бульваре, на скамейке сидели два человека и вели беседу о русском народе. Один из них был старик, другой – помоложе. И вот что говорил старик:
«Я по природе грек. Проживши немало на белом свете, я сталкивался с различными национальностями: и с немцами, и с французами, и с итальянцами, и с своим братом греком, и вот в чем вполне убедился: по природному здравому смыслу, или разуму, по отваге, выносливости нет ни одного народа, который бы стоял выше русского. Эти свойства души русского народа признает весь свет. Но заметьте, что этот народ еще молодой; он еще не успел развить своих богатых сил; его роль еще впереди. И вот питейное наше дело поставлено теперь так, что оно неизбежно должно повести к потере тех высоких качеств, которыми русский народ вправе был гордиться перед целым светом и которые должны бы обеспечить за ним славную его будущность. Дело это объясняется очень просто. Теперь пошло поголовное пьянство, и чем дальше, тем эта зараза будет больше распространяться. Это одна из самых прилипчивых зараз; недаром писано: «пьянства яко яда бегай!» Действительно, это тот яд, который может отравить и тело и душу… Вот подпили мужик и баба, а затем что? Вспомните: «не упивайтеся вином, в нем же есть блуд». Не разъясняя этого очень естественного дела, я скажу, что от пьяных супругов нельзя ожидать здоровых и умных детей. Не знаю, как ваши науки говорят об этом деле, а мы, старики, с опыта можем засвидетельствовать, что из детей, зачатых в пьяном виде, выходят голые дураки и идиоты. Недостатки или пороки родителей наследуются детьми. Одно испорченное поколение может передать порчу нескольким… Скажите же, чем Россия возвратит народный здравый разум?..»
Кто же сей старец, который высказывает так много глубочайшего сочувствия к русскому народу, так скорбит о его гибели, который так ненавидит водку, что даже сочиняет собственный свой текст: «пьянства яко яда бегай»? Это не кто иной, как Д. Е. Бенардаки, бывший откупщик, распродаватель этого «яко яда», этого напитка, от которого погибает здравый смысл народа, яда, который искажает физически целые поколения, доводя их до идиотства, яда, который губит народ, первый в мире, которому предлежало бы блестящее будущее, если бы не этот яд, от которого надо, по писанию, «бегать» и которым так, однако, долго торговал в среде этого народа почтенный старец.
«Прошу вас, – сказал старец в начале разговора: – не смотрите на меня как на бывшего откупщика; я нажился от откупов, но буду говорить чистосердечно. Во-первых, откупная система должна служить позором для настоящего времени, и я сам не понимаю, как я решился на последние откупа, за что и получил достойное наказание, потеряв миллионы…»
(Ну а если бы не потерял, а приобрел?)
Известный английский филантроп Плимсоль всю жизнь и массу своих средств употребил на раскрытие злодейств одной мошеннической шайки, наживавшейся получением страховой премии за суда, погибшие в океане. Шайка отправляла заведомо гнилое судно, застраховав его предварительно в значительной сумме и зная наверное, что судно должно погибнуть вместе с экипажем. Старик Плимсоль, не спуская глаз и не покладаючи рук, не из года в год, а из часа в час следил за этими плутами целые годы и довел дело до парламента. Он убежден был, что шайка делает подлое дело и преследовал его виновников неусыпно. Мог ли бы он, будучи убежден, что дела этой шайки позорны, сам вступить с ней в компанию и потом, в свое оправдание, говорить: «не понимаю, как могло это случиться…» А у нас это зачастую, и нам не хочется только называть имен, лично не брезговавших грязью торговли кабацким ядом, переносившим смрад сивушного пойла, наживавших деньги от этого позорного дела, и в то же время, в смысле общественных деятелей и печальников горя народного, доходивших до щепетильной обидчивости в случаях простого литературного противоречия их широким «упованиям» на боготворимый ими народ.
Такова наша участь вообще. То, что называется у нас всечеловечеством и готовностью самопожертвования, вовсе не личное наше достоинство, а дело исторически для нас обязательное, и не подвиг, которым можно хвалиться, а величайшее облегчение от тяжкой для нас необходимости быть просто человечными и самоуважающими. Сами мы привыкли, и нас приучила к этому вся история наша, не считать себя ни во что, сами мы поэтому можем основательно себя лично допустить и перенести всякую гадость, помириться со всяким давлением, влиянием, поддаться всякому впечатлению: «нам лично ничего не нужно». Добиваться своего личного благообразия, достоинства и совершенства нам трудно необыкновенно, да и поздно. «Уведи меня в стан погибающих», – вопиет герой поэмы Некрасова «Рыцарь на час». И в самом деле: лучше увести его туда, а не то, оставьте-ка его с самим собой, так ведь он от какого-нибудь незначительного толчка того и гляди шмыгнет в стан «обагряющих руки в крови»… Тургеневская Елена в «Накануне» говорит: «Кто отдался весь, весь, тому горя мало… тот уж ни за что не отвечает. Не я хочу… то хочет!» Видите, какое для нас удовольствие не отвечать за самих себя, какое спасение броситься в большое справедливое дело, которое поглотило бы наше я, чтоб это я не смело хотеть, а иначе… оно окажется весьма мучительным для собственного своего обладателя. Иначе оно – «горе»… Горя мало не отвечать за себя, иметь возможность забыть себя, сказав: не я хочу, то хочет…







