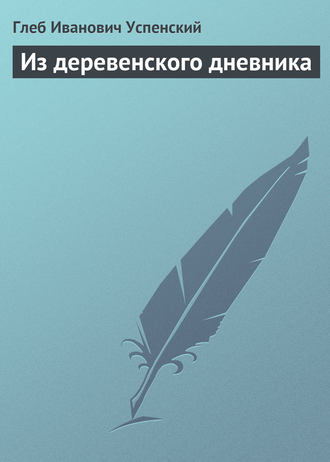
Глеб Иванович Успенский
Из деревенского дневника
Женат он в течение своей жизни три раза, причем первая его жена была за ним «за третьим», вторая – за вторым, и только третья была девушка, когда он уж успел быть два раза женатым. От всех этих браков у него были дети; кроме того, у каждой жены его тоже были дети от предшествовавших великану мужей, и все это в высшей степени разнообразное население, включавшее в себя детей полковничьих, чиновничьих, купеческих, поповских и т. д. до бесконечности, кроме детей, прижитых, между прочим, и мужчинами и дамами этого круга, – все это, благодаря великану, ставшему барином, сгустилось, в цветущие времена житья в свое удовольствие, в старых покоях господского дома, одержимое ненасытною жаждою ничегонеделания и удовольствий. Благодаря широкому распутству великана, многое множество этого неизвестно зачем нарожденного народа навеки погибло, подышав атмосферой ничем не стесняемого скотства, и, разбредшись по лицу земли русской, после того как великан «проел» все свои «вольности» и угодья, – еще более увеличило собой густой слой то наглой, то беспомощной жадности, который и без того довольно густо осел после первого периода жизни барских хором.
4
Не имея с крестьянином коммерческих дел, не имея официальной власти, не покупая или не продавая крестьянину, барин никоим образом не может найти почти ни малейшей связи с крестьянином и, покуда не съест с ним двадцати пудов соли, едва ли может рассчитывать на искренность с его стороны, даже в самом простом, обыкновенном разговоре. У крестьянина прочно сложилось какое-то в самую кровь въевшееся убеждение, что барин не понимает ровно ничего. Не понимает «житейского», не понимает того, что держит человека на земле, что заправляет его жизнью, душой и думой. Барин может купить, потому что у него есть деньги; может продать, потому что имеет товар; может заказать и заплатить за это; – словом, может делать все, что могут сами собой делать деньги. И во время этих операций, вообще во время денежной связи барина с мужиком, могут существовать между тем и другим, повидимому, довольно близкие отношения, могут происходить «понятные» обоим разговоры, хотя и далеко не искренние, никогда не допускающие барина близко к правде своих мыслей и чувств. Но как только барин возмечтал, основываясь на этом денежном знакомстве с народом, продолжать это знакомство так, «просто», «как человек», как продолжает всю жизнь быть знаком мужик с мужиком, – тут конец всякой связи. «Что ж может значить барин без денег в то время, когда он не заказывает, не покупает и не продает? Нешто он что понимает?»
Прошлая история барина как нельзя лучше укрепляет в воображении крестьянина убеждение в полной внутренней бессодержательности его как человека… Усталость от его неразумных капризов, колобродств и т. д., словом, от всех проявлений больного господского тела и ума, – это утомление уничтожает в крестьянине всякую охоту взглянуть на этот вопрос с какой-нибудь другой стороны, как-нибудь иначе понять барина. Перестав быть заказчиком, покупателем, нанимателем или чиновником, барин делается для мужика ничем и с ужасом принужден видеть, что у последнего нет и тени уверенности, что с этим существом можно иметь хотя такие же частные отношения, как и с своим братом-односельчанином. Необходимо дьявольское терпение, продолжительное и настойчивое желание фактически, на деле доказать понимание барином простых человеческих отношений, чтобы мужик начал верить, что и в барине сидит такой же человек, как и в нем.
5
Попробуемте, например, зайти вот в эту крестьянскую кузницу, которая дымится на соседнем пригорке близ дороги. Зайдемте поговорить с крестьянами, посмотреть на работу, на труд, узнать, сколько он дает доходу, и т. д. У низенькой квадратной двери кузницы собралось несколько крестьян. Одни из них ждут своих подков, своих лемешей; другие пришли, так же как и вы, постоять, посмотреть, поговорить. До тех пор покуда мы не приходили, у всех шел и деловой и шутливый разговор: и о работе говорили они, и о податях, и пошутили над молодым парнем, только что женившимся, и пожалели Ивана мельника, у которого такой-то мужик совсем отбил жену. В это время приходим мы с вами. Нам не нужно ни лемешей, ни подков; мы пришли так, как и два-три другие крестьянина, стоящие здесь же. Но, увы! с нашим приходом баляканье прекращается: «что вы тут понимаете? это не ваше дело». Пристать к разговору, который только что шел, нам нет возможности. Нам «ничего не нужно» – стало быть, и разговаривать с нами не о чем.
Никогда никому из находящихся в этой кучке не придет в голову, что вам «хочется» или «надо» просто поговорить об обыкновенных житейских вещах; никто и не думает подозревать в вас какой-нибудь интерес к личному делу крестьянки никто и не думает интересоваться вашим личным барским делом. Что ж с вами делать? «Угостите, барин, кузнецов-то! Право слово!» Другими словами: «Что пришел-то? Хоть полштофа с тебя, шатущего, разгрызть…» Или еще хуже: «Митрофан, представь штучку – барин тебе поднесет! добер барин-то!» – «Уж да-абер!» – хором подтверждают другие присутствующие, явно играющие комедию и решительно не желающие видеть в вас человека. «Барин! Что ж у него в голове? Верно какой-нибудь вздор! Представь ему, Митрофан, штучку – все нам по стаканчику». Не подозревая в вас никаких серьезных желаний, компания непременно «для вас» (если только надеется достигнуть результата в виде водки) начинает глупый скоромный разговор, и вы видите, что этот разговор именно для вас, для барина, которого интересует только «разная мерзотина». Ничего подобного никто из них не позволит себе с своим братом-крестьянином, который бы точно так же пришел и сел у двери кузницы на камушке. Потом, со временем, вы добьетесь от них человеческих отношений, если сумеете понадобиться им без заказов и без денег. Но на это надо много времени и труда, а так, с первого раза, без заказу и покупки у вас нет никакой связи. Пошли вы по деревне – это вы за бабами, за девками. Говорить с вами можно, только надеясь на угощение, и только сальности и глупости. Переставая быть заказчиком и покупателем, барин, просто как человек, способен только на пустые желания и на пустые поступки, словом – на что-нибудь такое, что не придет в голову ни одному крещеному человеку: вот первое впечатление, производимое на мужика барином, когда он подходит к нему «просто так», как «человек к человеку».
Эта черта крестьянского взгляда на барина ужасно горько отозвалась на третьей формации владельцев барского дома, последовавших за проевшим все случайным барином, или, вернее, простым «едоком». Возвращаясь к истории великана, мы должны упомянуть о том, что желание его «всучить» свои объедки какому-нибудь дураку (буквальное выражение) исполнилось как нельзя лучше. Среди нарожденного барским домом народа не все были червонные валеты[4] и рты: были люди и другого типа, которые, не страдая ненасытностью аппетитов желудка, не менее сильно страдали умственной жаждой. Именно страдали, болели: трудно быть здоровому, родившись в этой жирной тюрьме. Эти люди – им же несть числа – поняли, что в положении русского барина нету дела, нету жизни; что ее надо искать в труде, вблизи нищеты и невежества. Хорошая народная и именно русская черта русской души, не находившей никаких резонов для своей привилегированности, сказывалась в этом направлении мысли потомков барства. И вот началось движение «господ» в объятия «мужиков». С одним из таких-то людей и познакомился случайно великан в губернском городе, где-то в трактире. Расписал ему свои объедки в человеческом и минералогическом смысле – и всучил… Живет он теперь тихо в Москве с маменькой, старой старухой, и маленькой девочкой от последней жены и бога благодарит, что не погиб. Не та участь постигла барина, не хотевшего быть барином, – участь, постигшая не одного из людей, руководимых таким же нежеланием барствовать и не могших с этим барством разделаться. Да, никто из них не хотел быть барином, но все-таки барином оставался.
Впрочем, интеллигентным людям, стремящимся к деревне, нами будет посвящено несколько особых очерков, где читатель найдет более подробный рассказ о барине едва очерченного теперь типа.
6
Волостное правление и кабак, лежащие по левую сторону моста, уже не производят такого веселого впечатления, как лавка и господский дом. Вокруг и внутри этих строений царит, особливо в кабаке, мужик, и, вступая в его царство, необходимо позабыть о всяком разнообразии. Впрочем, чтобы переход от легковесных впечатлений господского дома к тяжеловесным впечатлениям деревни не был слишком резок и труден, мы постараемся облегчить его известной постепенностью.
Два писаря волостного правления, то есть один писарь, а другой его помощник, оба парни ражие, молодые, которыми мы начинаем знакомство с мужицкою жизнью деревни, своим наивным – как наивны молодые толстые дворняжки – видом, наверное, произведут на читателя благоприятное впечатление. Посмотрите, с какою беспечностью валяются они по лавкам, сытно, до отвала пообедав у учителя (за четыре рубля педагог ухитряется кормить их на убой и еще иметь «пользу»!). Дело происходит в довольно большой комнате волостного присутствия. На стене портрет государя, в простенке между окон, выходящих на большую дорогу, две-три кружки для сбора пожертвований на разные благотворительные учреждения, с печатными при них воззваниями; у одного из окон – стол с пером, бумагами, чернильницей. Солнце – двухчасовое, жгучее солнце – так и «жарит» в оба окна, наполняя комнату страшной жарой и полчищами мух. Но здоровенных парней это не беспокоит. Один, лежа на узенькой лавке, подставил солнцу спину и только покряхтывал от удовольствия; а другой, на такой же узенькой лавочке, ухитрился залечь на спине, задрав разутые ноги к печному отдушнику. Оба они без сюртуков и без жилетов. Долгое время не происходит никакого разговора, и не слышно ничего, кроме пыхтения, выражающего стремление отдуться от тяжкого бремени еды.
– А что, – с расстановкой и полусонно произносит, наконец, писарь (человек, лежащий на спине): – что у вас… в Болтушкине… как насчет этого дела?..
– Насчет товару-то? – ленивейшим тоном переспрашивает помощник (лежащий ничком) и распускает ноги, тоже босые, по обеим сторонам лавки.
– Само собой…
– У нас в Болтушкине – сколько хочешь…
Он потягивается, выгибая спину, как кот.
– Ну?!
– Ну вот, стану я врать. Сколько хочешь, столько и есть…
– Какую угодно?
Помощник, помолчав секунду, дает ответ, так сказать, среднего направления, необычайно лениво говоря:
– А то что же!.. Вот там… разговаривать!.. Это у вас тут всё тридцать, да сорок, да полтинник… У нас в Болтушкине этого нет… Шалишь, брат!.. У нас этого баловства нет… Знак подал – и готово.
– Какой знак?
– Аль не знаешь? Маленький ребенок, что ли, ты?.. Какой знак? – ну мигнешь, пройдешься мимо, кашлем дашь знать… мало ли есть предметов…
– И готово?
– А то что же еще разговаривать-то?.. Много будешь разговаривать, так это очень для них жирно…
Все это произнесено беспечнейшим жирным хрипом, приближающимся к звукам простуженного горла.
– А кто в Болтушкине писарем?
– Аль разлакомился?.. Хе-е, брат!..
– Хе-хе-хе… Ей-ей, переведусь в Болтушкино!..
– Хе-хе-хе… Ишь ты кот сибирский какой!.. Поди переведись… Утрут тебе нос-то там… Хе-хе-хе… Я шукну одно слово, поглядим, ухватишь ли…
– Отчего ж я-то не ухвачу? Ты хватал, а я нет?
– Я другое дело… я знаю сноровку.
– И я знаю.
– Нет, не знаешь…
– Ан вот знаю.
– Ну хорошо. Отвечай, как надо поступать, чтобы всякую заинтересовать?
– Деревенскую или благородную?..
– Все одно, сплошь…
Писарь молчит, взволнованный разрешением этой задачи.
– И не знаешь… а я знаю!
Помощник при этом садится.
– Ну как же, чем?..
– Чем! – так я тебе и сказал…
– Нет, пожалуйста, скажи!..
Писарь тоже вскакивает с лавки.
– Вот дурака нашел! стану я секреты открывать…
– И всех?..
– Всех до единой… Хоть графиня, хоть что…
Писарь бросается к помощнику и начинает его умолять.
– Ну, голубчик, ну, Ваня… скажи… я тебе…
– Нечего, нечего вас баловать!
Писарь принимается тормошить помощника, и оба они начинают бороться посреди комнаты. Долго шуршат их босые ноги по деревянному, покрытому высушенной солнцем грязью полу; долго раздается то там, то сям грохот отскочившей лавки или стола, на которые налетают эти юные силачи. В борьбе они забыли разговор, растрепались, раскраснелись – любо смотреть на парней. Ломая друг друга то на одну, то на другую сторону, они только покряхтывают, не теряя веселого расположения духа. Ткнутый кулаком в брюхо, писарь отскакивает в сторону, потирая больное место, – и бой оканчивается.
– Я, брат, – говорит помощник самоуверенно: – и не таких свертывал в комок…
– Эка! в живот-то пхнул…
– И ты пхай! Чего же? Ну-ко, пхни-ко меня… На! Отскочу я или нет?
– Давай!
– На.
Помощник выпячивается вперед.
– Ну пхай!
Писарь действует ехидно, из-под низу, так что и помощник отлетает в сторону.
– Нешто так можно, свинья ты этакая!
– Я ненарошно…
– Дубина этакая! – ненарошно…
– Ну прости, пожалуйста… Нешто я…
– Чорт этакой… Дай-ко я тебя так гвоздану, так ты у меня кубарем к чорту на рога улетишь… Ты пхай в живот – нешто так можно?.. Вот куда пхай!..
– Ну давай…
– Ну на!.. Да смотри, идол, башку сверну…
На этот раз три удара кулаком, направленные без ехидства в указанное место, не производят на помощника никакого впечатления.
– Ну бей, бей! – приговаривает он.
– Да! – говорит писарь. – Вспучил живот-то!..
– Вспучил! Ну-ка вспучь ты, погляжу я… Ну-ка, становись…
– Ну дуй!
Писарь раздувает живот елико возможно, но от одного удара в самом деле летит кубарем…
– Вот те вспучил! – приговаривает помощник.
– Свинья этакая… как хватил!..
– А! свинья!
– Чистая свинья!..
– Нет, брат, тебе до меня далеко!..
– Дубина!..
– Вот те и дубина!
– Нет, вот как! – оживленно заговорил писарь: – согласен так – давай?
– Как?
– А вот как… Я возьму палку…
– А я тебя ею тресну по башке…
Начинается хохот. В это время отворяется дверь, и показывается фигура учителя с удочкой.
– Что вы тут гогочете, как жеребцы в конюшне?
Писаря едва могут уняться.
– Куда это вы, Митрофан Петрович?
– Да вот хочу перед чаем немножечко посидеть. Авось к ужину ушицу наберу… Будет баловаться-то, бери у Петьки уду – пойдем…
– Пойдем, пожалуй, попытаем, отчего же! – произносит лениво помощник, к которому относятся эти слова.
– И я, – прибавляет писарь: – от нечего делать…
Одевают сапоги, запасаются табаком, спичками и отправляются рыть червей. Спустя десять минут всех троих, окруженных ребятишками, помогающими надевать червей, можно видеть на берегу реки. Каждый из ловцов выбрал по тихому местечку в кустах и терпеливо следил за поплавком. Тихо в кустах, тиха вода, и чудно хорош и свеж воздух. Ни одной тревожной, беспокойной мысли нет ни в ком, кроме сладкой тревоги в ожидании минуты, когда рыба потянет крючок книзу.
– И-ва-а-а-ныч!.. – откуда-то далеко, по верхам густого кустарника, доносятся звуки визгливого, очевидно женского голоса.
– Эй! – кричит в кустах помощник: – Скворцов! слышишь, что ль?
– Чего?
– Как чего? Слышишь, зовут!..
– Где зовут-то? Только было клевать начала…
– Бу-у-ма-аага-а!
– Бумага! слышишь, что ль… Пойдем!
Помощник и писарь бросают удочки, так однакож, что поплавки остаются на воде, и уходят.
– Скорей, – кричит им учитель. – Тут окунья – страсть!..
– Сейчас!
– Стадами ходит!..
– Приде-ом!
Но на этот раз им не пришлось скоро возвратиться назад: в правлении ожидал их нарочный из уездного города, привезший большой пакет с надписью «экстренно-важное». В пакете было распоряжение о немедленном призыве ополчения[5]. (Записки относятся к лету 1877 года.)
– Ого! – сказали писарь и помощник, прочитав содержащиеся в конверте бумаги.
Приходилось немедленно садиться за работу.
7
Уж не думает ли читатель, что я, вслед за изображением волостной идиллии, изображу теперь сцену, в которой баловники-писаря окажутся манкирующими своими обязанностями? Помня прошлые времена, читателю может представиться, что, несмотря на серьезность и важность полученной бумаги, писаря, увлекшиеся рыбной ловлей, спокойно положат ее под сукно, а сами отправятся опять на берег и, сказав себе насчет бумаги – «успеется», будут преспокойно продолжать свои невинные удовольствия. Нет, не приходится теперь говорить о сельских и волостных властях ничего подобного. Времена стали не те, и точность в исполнении своих писчебумажных обязанностей в настоящее время составляет самую видную черту деревенской жизни. Не расспрашивая и не задумываясь, «почему», «зачем», писаря часа два скрипели перьями по бумаге, адресуя к сельским старостам приказания явиться в волость таким-то и таким-то крестьянам, вынувшим рекрутские жребии в таком-то году. Не расспрашивая и не думая расспрашивать о причине спешной посылки за старшиной, рассыльный гнал свою лошадь в соседнюю деревню, где жил старшина. И старшина в свою очередь, услыхавши, что пришла бумага, немедленно оделся и прибыл в волость. Точно так же, «без всяких разговоров», два рассыльных поехали развозить по деревням, для передачи сельским старостам, написанные писарями предписания, а сельские старосты в тот же вечер объявили призываемым о том, чтобы завтра они шли в волость, о том, чтобы такие-то и такие-то мужики приготовили подводы. И все это буквально «без разговоров» о причине, без расспросов о том, куда и зачем погонят. Плачут, конечно, женщины, матери, невесты; сапожник Петр тоже жалеет, что приходится бросить мастерство и за что ни попало продать инструмент; но ни у кого ни на единую минуту не мелькнет вопрос: зачем и куда? – раз приказание пришло из волости. На все эти вопросы, зачем гонят и куда гонят, не ответит никто – ни сельский староста, ни волостной старшина, ни писарь. Да и никто из них не спросит, или, вернее, отвык спрашивать и разбирать то, что приходит сюда в деревню в виде приказывающей, но никогда ничего не объясняющей бумаги.
Я три месяца жил в деревне, в то время как наши войска переходили Дунай, дрались, умирали, тонули, покоряли и покорялись. Три месяца вся читающая городская Россия уже жила тревожными интересами войны, и в течение таких-то трех месяцев я ни от кого, не исключая писарей, учителя, даже иерея, не слыхал здесь ни единого слова о том, что делается на белом свете. Газет никто никаких не получает, а в город или на станцию никто не ездил: огороды, косьба, словом – хозяйство. «Собрать рекрутов призыва такого-то года…» «Произвести приемку лошадей, выбранных тогда-то и тогда-то» – вот что доходит в деревню от самых крупных исторических событий, и, кроме этих официальных требований, вовсе ничего не говорящих о значении переживаемой минуты, – ничего, ровно ничего и никому неизвестно, и ровно ниоткуда не приходит в деревню ничего такого, что бы показало значение этого призыва или покупки казною лошади в общей картине совершающихся событий. Человек, который через неделю, через две будет защищать Шипку или Каре или освобождать Болгарию[6], уходя из села, по совести может жалеть только о том, что сапожные инструменты пришлось отдать за бесценок и что не скоро опять заведешь эти инструменты; но ни о Шипке, ни о Болгарии, ни о причине, требующей его на защиту кого-то, – ничего этого ему неизвестно, никто об этом ему не скажет ни единого слова, а главное – он сам отвык расспрашивать об этом и узнавать.
Я бы сказал большую неправду, если бы стал утверждать, что в этом «нерассуждении» народа скрывается, положим в данном случае, охота идти в бой и детски-чистое желание постоять за правое дело. Нет этого ничего. Никто не знает – зачем, в чем дело, но всякий беспрекословно идет потому, что привык идти, когда ему скажут: «иди»; привык платить, когда скажут: «плати», и совершенно отвык от «разговоров» на тему – куда? зачем? и почему? так как идея большого или маленького явления, совершающегося в общей жизни государства, никогда не доходила до деревни. Сюда являются только какие-то дребезги, если можно так выразиться, этой идеи, не дающие о ней никакого понятия. Не только об общем ходе политической жизни, в данную минуту переживаемой всей страной, деревня не имеет никакого понятия – она никогда не знает даже о причинах, влияющих прямо на ее экономическое положение, на ее карман.
Посмотрите, в самом деле, – много ли требует его собственного рассудка тот широкий круг общественной, государственной службы, которую несет крестьянин, и вы увидите, что в этом отношении он не может играть никакой роли. Он может распределить между своими односельцами цифру взимаемых с деревни денег, но самая цифра эта приходит уж готовая – «из города». Высчитано, что с Слепого-Литвина приходится получить 1082 руб. 3/4 коп., и Слепое-Литвино разбивает эту цифру на количество душ. И так во всем. А всего этого куда как много проходит ежедневно чрез деревню, без всякой возможности с какой-нибудь стороны найти кончик нитки, по которой можно бы было добраться до источника. Изволь тут развиваться, понимать и думать!
Таких-то вот общественных обязанностей деревня имеет, правду говоря, бесчисленное множество. Их разнообразие и несвязность одного требования с другим хотя и отбили охоту у крестьян от общих взглядов и рассуждений, но занимают в крестьянском обиходе громадное и главное место. Каким-то тяжелым клубом свернулись все разнообразные отрасли общественной службы в сознании крестьянина, и, не распутывая этого клубка (так как распутать его почти невозможно), крестьянин определил его одним словом – «деньги». Вся куча повелительных наклонений низвергается в деревенскую глушь в виде простого требования денег и вообще каких-нибудь материальных расходов, но денег, денег – главным образом… Всякая, самая благороднейшая мысль, направленная на общую пользу, откуда бы она ни шла, дойдя до деревни, превращается в простое требование денег. Проекты «оздоровления», «образования», «поднятия народной нравственности», «оживления народа», словом – всякая благая мысль, как только начала приводиться в исполнение, непременно начинается в каком-нибудь Слепом-Литвине прямо со «взносов». В Петербурге, в губернском городе, в уездном – идут разговоры, проекты, доказательства, прения; слышны разные, бесспорно умные слова: «развитие», «улучшение», а в Слепом-Литвине, во имя этих прекрасных проектов и слов, происходит только раскладка. Из таких слов, как «образование», «развитие», «улучшение», в Слепом-Литвине, неведомо каким образом, образуются совершенно другие и всегда грустные слова: «по гривеннику», «по двугривенному», «по полтине». И все эти гривенники и полтинники вносятся «без всяких разговоров», а если и не вносятся в должном количестве, то все-таки каждый, старается заплатить, чувствуя, что за ним есть недоимка.
Обведя вокруг Москвы круг радиусом верст в четыреста, мы получим местность, в которой положение крестьянина и направление его мысли в общих чертах определится стремлением «добыть денег», только добыть денег – больше ничего. К этому направлению крестьянской мысли начало присоединяться плохо определяемое, но тяжко чувствуемое крестьянином желание – уйти куда-нибудь, желание как-нибудь полегче добывать то, что теперь добывается с таким трудом. И это стремление уйти из сухих и жестких условий крестьянской среды объясняется все тою же необходимостью добывать все больше и больше денег. В самом деле, никогда крестьянину не приходилось так много платить наличными деньгами, как теперь. Платить хлебом, тальками[7], курами, поросятами, как он в старые годы платил помещику, который все это мог сбыть оптом в губернский город или в Москву, – теперь не приходится: ни кур, ни холста, ни муки не возьмет ни одно волостное правление; нужны чистые деньги, кредитные билеты, и вот этих-то чистых денег и неоткуда взять крестьянину, настоящему деревенскому мужику. Он чувствует, что платить ему «надо»: об этом никаких разговоров и сомнений нет; но платить нечем. Вышло так, что в настоящую минуту нет крестьянского двора, по крайней мере в Слепом-Литвине, о котором главным образом и идет речь, который бы не платил за двух – никак не меньше – душ. Семь человек ратников, ушедших в ополчение, составляют вновь добавочный платеж за четырнадцать душ, раскладывающийся не более как на пятьдесят человек работников-мужчин. К покрову непременно необходимо представить эти деньги; нет сомнения, что недоимка будет громадная (на шестидесяти дворах Слепого-Литвина ее наросло уже 8000 руб.); но слепинские мужики, не зная, сколько придется выработать (тут тоже тьма кромешная), все-таки будут биться, стараться добыть деньги… Откуда и как же они их добудут?
На этот вопрос всякий слепинский мужик может дать вам только такой ответ:
– Откуда!.. Ведь господь милостив, батюшка… Человек всю жизнь бьется – все ничего, а вдруг «и из палки выстрелит»!
То есть вдруг, неведомо откуда и как, налетит на человека полтинник, рубль – и спасет его от беды.







