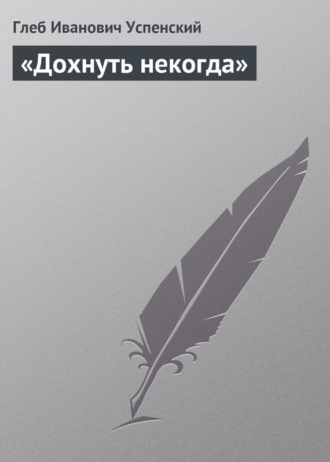
Глеб Иванович Успенский
«Дохнуть некогда»
Но в конце концов никто из действующих лиц этой сегодняшней сцены не мог, как говорится, разобраться в своих мыслях. Точно облака удушливой пыли, поднятые этой суетой, затемняли здравый рассудок каждого.
– И что же это будет? – сидя в темной, размышлял старшина или староста. – Я же начальник и меня же вместе с прохвостом? И кто же меня будет слухать, бояться?.. А ежели меня не бояться, не почитать, так что ж будет значить мое слово? И что ж это сажать начальника, когда явственно взять нечего? Теперича я просижу день, что ж, прибавится взносу-то от этого или нет?.. Ты сажай прохвоста, пьяницу, а начальника береги, да тогда и взыскивай!..
– Нет, это очень прекрасно, что вас, живорезов, учить стали! – говорил начальнику «упорщик» и грубиян Егорка. – Вашему брату давно бы уж пора руки к лопаткам прикрутить! Ишь ты, как лапы-то растопырил, пасть-то разинул… Так тебе и полезу я прямо в хайло! Кабы не неурожай, так попал бы я тебе в лапы-то, как же, ухватил бы ты меня! Очень прекрасно, что вашего брата приструнивают, а вот нашего-то брата уж не за что в темную-то пхать; уж это надобно сказать прямо… За что? У меня хлеба нет, работы нет, есть нечего. Чем я виновен, что урожаю нету? Опять же из-за чего я перезаложил вам, живорезам? Кто меня обобрал? Чем мне платить, коли я тебе все отдал? Нет! Тут правды нисколько нет! Ну чего от меня проку-то будет, ежели я сутки просижу?.. Ну?..
И такие странные, тяжелые мысли, у которых никто не был в состоянии свести концы с концами, тяготели решительно над всеми участвующими. Мировой судья, сидя в земской телеге, направлявшейся на станцию железной дороги, попробовал было оправдать все происходившее какою-нибудь высшею целью, каким-нибудь неприметным простому глазу благом и пытался доказать самому себе, что такая на первый взгляд бесцельная суета все-таки в конце концов имеет соприкосновение с поднятием курса русского рубля, а следовательно, с благом общественным, но при всем его желании «свести концы с концами» из размышлений его не выходило ровно ничего. Такая простая вещь, как неурожай, а вместе с ним масса других, не менее простых вещей и нужд, не имеющих даже и отдаленного права надеяться быть просто удовлетворенными, разбивали его софистические размышления, и он чувствовал только, что он устал, что дел никаких не было, что была суета, пустяки и шум… шум, езда и жалованье в конце концов.
Мрачен и утомлен был также и исправник, и ему было не по себе, до того не по себе, что, встретив на дороге мужика той деревни, из которой он уехал, он приказал ему передать, чтобы выпустили из темной всех, кто там есть. Он делал то, что следует ему делать, но все, что он делал, было никому и ни на что не нужно. Не нужно ему, не нужно семье, не нужно деревне. Он ясно чувствовал, что нужно вовсе не то, а что-то гораздо более тихое, простое, человечное. Но это опять-таки одна фантазия.
Апельсинский также нерадостно смотрел на белый свет. Он описал у мужика теленка, который был до того мал, что не мог держаться на ногах, для чего мужик должен был вынести его на руках, как младенца. И теленок-то стоит четвертак. Как все это чудно, тяжко, бестолково, а надо! Ничего не поделаешь… А рядом с Апельсинским сидел тот же самый ямщик, который вез их всех в волость и раньше, сидел и думал:
«Сколько езды-то! Вон опять у лошаденок брюхо-то подвело! Сколько народу-то ездит… А чего? Коли бы ежели бы урожай был, а то нехватка, недостача… А что шуму-то! Да не пимши, не емши…»
В самом мрачнейшем расположении духа подъехали пассажиры земской подводы к станции. Но здесь они неожиданно натолкнулись на сцену, которая весьма облегчила их измученные души, потому что в самых яркпх чертах указала выход из бесплодной, но каторжной суеты жизни, которою они были подавлены.
Тяжелою, утомленною поступью поднялись они все трое по ступенькам вокзала, сопровождаемые земским ямщиком, несшим за ними портфели, плотно наполненные делами, когда в самых дверях буфета на них налетела какая-то пьяная фигура.
– А, ямщик! Михайло! Ты Михайло? – заплетавшимся языком бормотала фигура, бормотала громко, на весь вокзал, покачиваясь и махая руками.
– Так точно, ваше высокоблагородие… я-с самый!
– Это… т-ты м-меня вез?
– Точно так… мы везли-с.
– А про девчонку ты объяснял?
– Это про энту-то? Как же, ваше благородие… это я вам докладывал.
– А-а! Ну верно, верно! Давай я тебя поцелую! Верно, брат, брат ты мой милый! Михайло, голубчик, верно, родной, все верно!
И следователь (это был, к сожалению, он), как говорится, облапил извозчика и, шатаясь, целовал его в губы, в бороду, захлебываясь и всхлипывая. Он был сильно пьян.
– Верно! – бормотал он в промежутках между поцелуями. – Нужда, брат, Миша!.. А мы в острог, пррро-токол… проккурор… Голубчик, прости! Подлец, да, подлец… прости подлеца!..
– Ну, будет, Николай Петрович! – желая прекратить эту сцену и трогая следователя за рукав, тихо проговорил Апельсинский. – Ведь народ… дамы, не ловко же!
– А-а-а!.. – удивленно и попрежнему громко, во всю мочь возопил следователь, обернувшись в сторону Апельсинского. – Сотоварищ… Э-э-э!.. и господин исправник тут же… да тут все… вся армия спасения… культура, цивилизация и эмансипация…
– Ну, будет, будет! – шептал Апельсинский.
– Нет! Очень приятно… Здравствуйте, господа, и прощайте… Оревуар! Мерси![3] Не ожидал! Предоставляю вам аррену, арену-с, а меня увольте. Увольте меня! во мне есть бог! да! Бог во мне есть! Культурная вы мастеровщина!.. Не хочу! довольно! будет! Я учился, я читал, я думал… и я пойду тащить в острог мужика? Нет, не будет этого!
– Ну, будет, будет, Николай Иваныч!
– Нет! Не будет! Я посадил девчонку, теперь мне надо сажать целую деревню… Кулачишка им сделал подтоп мельницей, оставил без сена, без молока, без пищи ребятам, без скотины, без дров… Я, университетски образованный, я должен стоять за кулачишку: у него собственность, плотина, а они самовольно ее разломали… У них дети, старики, жены, это ничего! Это ниже собственности!.. Мне этого довольно, довольно! Позор, стыд, срам… Эй! Эй! Человек! на тебе фуражку! Водки давай! Давай лапти! Лапти мне!.. Это… это… что это? Что такое? Да! Это одна езда, езда и кровь человеческая… Лапти давай мне, каналья!.. Лапти!..
– А ведь, ей богу, так! – сказал исправник.
– Верно! верно! – воскликнул Апельсинский и хотел было с объятиями броситься к следователю, но в это время с дивана вскочил какой-то пассажир и громко крикнул:
– Что это за безобразие! Выведите его вон, каналью! Здесь дамы!..
Восклицание это было до такой степени грозно, что любопытные, начавшие стекаться на шум, производимый следователем, вдруг раздались в стороны, следователь замолк, а я… проснулся.
Оказалось, что я спал крепким сном и проснулся оттого, что поезд владикавказской дороги, по которой я ехал, остановился около какой-то станции, а по платформе два жандарма тащили под руки какого-то огромного пьяного, ободранного человека с косой на плече…
– Выведите его, каналью! Долой с платформы! – кричал начальник станции. – Здесь дамы… дети!..
Я понял, что именно этот голос и разбудил меня.
Не все, однако, рассказанное мною, происходило только в сновидении. Я очень хорошо помню, что о весенней голодовке в наших северных местах и о той «деловой суете сует», которой она сопровождалась, я стал думать потому, что, садясь в вагон владикавказской дороги, чтобы ехать домой, на север, и, таким образом, поканчивая с летними впечатлениями жизни на юге, я невольно стал вспоминать то время, когда я только что стал собираться ехать на юг, и вспоминал весну, а с ней и голодовку и суету сует. Но где же та точка, с которой мои совершенно реальные впечатления перешли в сновидение? Этот вопрос тотчас же бросился мне в голову, как только я открыл глаза и убедился, что я спал, и, на мое счастье, действительность почти тотчас же рассеяла мои недоумения: как раз против окна вагона, в которое я смотрел на станционную публику, стояла группа тех самых деятелей, которые мне приснились; тут был и исправник, и мировой, и следователь, и еще много разных людей с портфелями, набитыми бумагами; но все они были так светлы, так спокойны, здоровы и веселы, что решительно не напоминали своих сотоварищей, приснившихся мне во сне; ни сомнений, ни терзаний, ни вздохов – ничего этого нельзя было ожидать от совершенно спокойных, изящных людей, которых я видел в действительности. Ясные, светлые лица их и спокойные приемы не давали, правда, возможности решить вопроса о том, почему лица эти так ясны и самодовлеющи? Потому ли, что дела их ясны и светлы, или потому, что в темные и неясные дела они сами только и делают, что вносят свет? Но, и не затрудняя себя решением этого вопроса, можно было все-таки ясно видеть, что это вот не приснившийся, а настоящий исправник, это настоящий следователь, а это заправский судебный пристав, да вот и столик с картами и мелом пронесли для них два сторожа в первый класс, – очевидно, что люди настоящие, делающие какое-то, должно быть, тоже настоящее дело.







