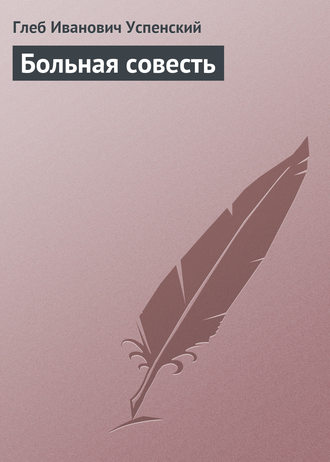
Глеб Иванович Успенский
Больная совесть
Окончание истории с судом было таково: после того как по обыкновению именем французского народа был произнесен приговор (подсудимого в это время нет в зале суда), публика, находившаяся в камере, вышла на двор, заставленный пустыми пушечными станками, и обступила растерянную жену несчастного. Публики этой было очень немного: два-три свидетеля, в том числе две женщины, семинарист-иезуит с толстомясым лицом и флегматически сложенными назади руками да два-три иностранца. Женщины ахали, советовали что-то, жена подсудимого плакала, прочие стояли и смотрели. В это время по случаю перерыва заседания прокурор и защитник да, кажется, кто-то и из судей неправедных вышли на крыльцо курить и болтать… Зная наши отечественные добрые нравы, я подумал: «А вот сейчас эти прокуроры и судьи подойдут к несчастной и станут соболезновать ее горю… ну, хоть из приличия…» Мне потому пришло в голову, что у меня есть множество приятелей прокуроров, которые именно так поступают; эти мои приятели, они вовсе, например, не злы на мужика, который вырубил дерево и которого нужно засадить в острог; в сущности они душевно жалеют этого мужика, они научились любить народ, и если иной раз упекут в Сибирь, то это по обязанности, а сами лично они даже жалеют, дают деньги… Один из моих приятелей был даже так огорчен каким-то делом в этом роде, что мало того, что дал упеченному денег, а даже… подал прошение о переводе в другой город… Когда мне все это пришло в голову, я того и ждал, что эти звери теперь, когда заседание прервано, вдруг сделаются не-зверьми (как мои приятели) и покажут нам свои лучшие светлые стороны… «Вот сейчас», – думал я. Но они стояли и курили, заложив руки в карманы своих красных панталон. «Да что же это такое? – стало приходить мне в голову. – Неужели они даже и в перерывах заседания остаются такими же зверьми?..» Мне показалось, что на нашу группу они смотрят не с сожалением, а с каким-то веселым сарказмом в глазах… «Да неужели же они считают себя правыми?» – думал я в недоумении. И, чтобы удостовериться, сделал даже некоторое неприличие – попросил у одного из них закурить (хотя простонародный соотечественник и внушил уже мне, что французские порядки требуют, чтобы спички держать свои). Мне хотелось послушать, что такое они болтают; я нарочно возился с сигарой, склеивая ее, перевертывал другим концом, чтобы протянуть время. И что же? Один из них ругательски ругал коммунаров, а другой предложил на будущее время просто «сбривать им головы с плеч», и, сколько я мог заметить, сказал это с подлинною ненавистью… Тогда я убедился, что они действительно злы и делают так, а не иначе, именно потому, что злы.
II
Таким образом и версальский неправедный судия, и берлинский зверь, и все, кто в вышеприведенных заметках являлся дурен ли, хорош ли, – все они делают только то, к чему влекут их личные нравственные требования. Неправедный версальский судия, убивая в коммунаре ненавистную ему идею, делает это потому, что, допустив идею врага, он должен отказаться от своей, которою он живет и которую он считает справедливою… Зверовидный берлинец потому так охотно исповедует религию пропарывания кишок ближнего, что вследствие множества мельчайших причин, о которых можете прочитать в книжках, эта религия составляет идею его личной жизни; она ему нужна за кружкой пива, за трубкой. С своей точки зрения он может представить тысячи по его голове совершенно логических доводов, которые его совершенно оправдывают. На своем знамени в данную минуту он может написать такое словечко, которое ему дороже жизни. Вам, постороннему наблюдателю, он может показаться сумасшедшим, но он лично совершенно прав, честен пред своею совестью, живет… Ощути он за своей трубкой, за своей пивной кружкой потребность не пропарывать кишок – и на знамени надо будет писать другое слово, а старым, пожалуй, не стащишь его с места. Заберись коммунарская идея в голову, в сердце, словом, в будничный обиход версальского неправедного судии – и, пожалуй, не он будет убивать, а его.
Негодуйте, сочувствуйте – как скажет ваша совесть. Что же делает мой приятель Петров? В зале суда он упекает крестьянина Андронова за порубку дубков, в перерывах заседания сочувствует ему и дает деньги, а дома является демагогом… Что тут правда, что тут настоящее? где тут результат, кроме того, что крестьянин Андронов отправляется в острог и благодарит прокурора за пожертвование: «дай тебе бог»? Что тут живого, по совести считаемого нужным?.. Я знаю одно, что версальский жидомор чувствует себя хорошо, а Петров скучает и хочет исцелиться, подав прошение о переводе… Да и мне, помню, с этим Петровым было необыкновенно скучно.
Где больше правды, в иностранном ли фабриканте, согнувшем рабочего в дугу, или в другом моем приятеле, недавно умершем от скуки и от чахотки, помещике Федосееве, на винокуренном заводе которого распоряжается известный уже читателю Куприянов?.. Фабрикант прямо смотрит на свою фабрику как на учреждение, которое должно дать ему деньги на жизнь, слагающуюся из потребностей весьма определенных, удовлетворение которых ему необходимо и которые он, по свойственному всем чужестранцам крайнему эгоизму, считает выше всего на свете. Он – свинья (если так да позволено мне будет благосклонным читателем выразиться), но он лично полагает, что поступает справедливо, стараясь получить из рук голого рабочего больше, а не меньше. С господином же Федосеевым происходили следующие обстоятельства: он был, во-первых, человек «добрейший, честнейший и благороднейший»; винокуренный завод он открыл, сам не зная как («решительно не понимаю, – говорил он, – как могло мне прийти в голову»!), и, как утверждал он при жизни, видеть его равнодушно не мог… Когда доходили до него слухи, что Куприянов обсчитывает и грабит, с ним делались истерики, и он иной раз сам раздавал обсчитанным рабочим деньги – по пяти, по три рубля… Каждый год он собирался закрыть завод, но не закрывал, совершенно не зная, как это случилось… Завод между тем, управляемый Куприяновым, шел кое-как, приносил кой-какой доход, который барин принимал «с омерзением» (собственное его выражение) и собственно лишь для того, чтобы поехать в Петербург послушать хорошей музыки и вообще отдохнуть от всей этой слякоти. Спрашивается теперь, что в нем, в господине Федосееве, я, посторонний человек, могу считать действительным и живым: тонкое ли понимание собственно музыки, демократические ли его идеи или идеи фабрикантские? Я полагаю, что ни на один из этих вопросов ответить невозможно утвердительно. «Жду смерти, как избавления, как манны», – сказал он мне однажды и действительно умер с большим удовольствием… И действительно на душе у него должно было происходить бог знает что. А рабочий? Согнутый головой к земле, иностранный рабочий знает, кто его согнул; несчастный, он живет злостью, которая рано ли, поздно ли разогнет его!.. Положение же Андрона, работающего на фабрике Федосеева, совершенно неопределенное. После того как Куприянов обсчитал Андрона, а барин дал ему пять целковых, Андрон пьянствовал две недели, похваливая господ, и пропился до того, что жена Андрона сама пришла к Куприянову и просила его образумить пьяного дурака. И действительно, Андрон крайне нуждался в какой-нибудь доктрине. Очнувшись, он решительно не мог понять, он ли, Андрон, виноват, Куприянов ли виноват, или барин… Но когда оказалось, что, напротив, барин ему сделал благодеяние, то мысли его до того перепутались, что он чувствовал себя дурак дураком и, говоря по совести, был в душе очень благодарен Куприянову, когда тот его образумил. Куприянов, во-первых, дал ему хорошую пощечину, потом повторил ее раза три-четыре и оштрафовал за все прогульные дни. «Дурак я был», – думал Андрон, принимаясь за дело.
Кудиныч старый воин и добрая душа! Я часто посещаю Кудиныча (он у нас караульщиком на огороде), веду с ним разговоры и решительно жалею его… Что за существование?.. Он обыкновенно сидит в своей караулке, что-нибудь тачает, или штопает, или жует свою печеную картошку, кровью выслуженную на войне, приговаривая всякий раз: «господь напитал – никто не видал, а кто видел – не обидел…» Это – человек, который сам действительно мухи не обидит. А сколько он обидел на своем веку народу, и все народу, по его мнению, доброго, хорошего!.. «Много мы их тогда перебили… народ все чистый, ладный народ, ничего!» – скажет он иной раз, заговорив о войне и о своих подвигах; но, отделавшись от них, он почти не интересуется ими и толкует о них редко. Отдыхая теперь на спокое, он живет сам по себе – и вот, послушав раз-другой его разговоры с мальчишками, я вполне убедился, что «сам по себе» он совсем другой человек… Посмотрим, что его интересует, какими небылицами набита его голова.
– И горит, братец ты мой, – рассказывает он босоногому мальчишке, – этот самый гац без фитиля и без лучины… И как бы ты думал, откудова он идет, этот гац? – вопрошает он удивленного слушателя и, долго помолчав, почти с ужасом произносит: – Из собаки! да! Из дохлой, из падали из собачей!.. Наберут дохлятины, сейчас ее в особое место, – в варку, – ну а из варки она уж и выфыркнвает полымем… Значит, этот дух… например, жар… стало быть, эта сволочь самая…
Или рассказывает о том, что близ Ярославля один дьякон откопал мешок с тараканами; они лежали в земле тысячу лет – и живы!.. Дьякон будто бы тотчас же явился с этим мешком в собор и подал его архиерею на самом амвоне, за что вышла из Петербурга награда. Он верит, что в Киеве существует мост на двадцать верст длины, вылитый целиком из железа, что если зайцу отстрелить хвост и зарядить этим хвостом ружье, то ружье будет стрелять без промаху.
Удивление его всем этим чудесам, в которых одна «премудрость», ничуть не меньше удивления его деревенских слушателей ребят; да, он ребенок – добрый, тихий, религиозный (в молодости он намеревался поступить даже в монахи)… Но все эти личные его качества – теперь на возрасте десятилетнего ребенка. Почему же им не суждено было развиваться? Почему в видах высшей пользы они должны были замениться совершенно другими качествами… и притом какими?.. Я часто пытался разузнать, какая сила таскала его по черкесам и по венгерцам, и признаюсь, кроме слов «там, брат, не разговаривают», я почти ничего не слыхал, объясняющего дело. Один только раз, как мне показалось, он произнес магические слова своего знамени. Это была солдатская песня такого содержания:
Мы с героем – дети славы
. . . . . . .
Есть у нас своя семейка
Невеличка и добра.
С нею жизнь для нас копейка —
Сухарь, чарка и ура![2]
Но когда я захотел потолковать с ним насчет этой песни, то оказалось, что он в ней понимает очень мало и сердится, так что разговор пресекся на первом слове. Прежде всего он произнес не «с героем дети славы», а с «хероим». Когда я спросил: что это значит? он насупился и отвечал уже – «херуфь»; на вопрос, что означает это слово, он еще более насупился и забурчал:







