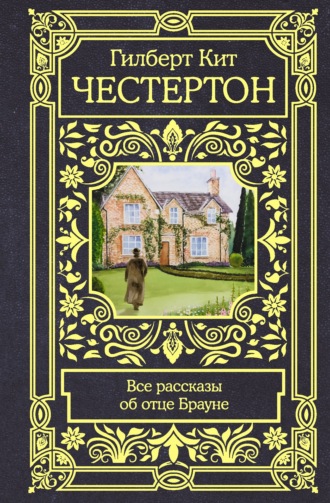
Гилберт Кит Честертон
Все рассказы об отце Брауне
Лесная тропа делалась все уже, круче и извилистей, пока не стала походить на винтовую лестницу. Отец Браун шел впереди, и теперь его голос доносился сверху:
– Там упоминается еще об одной небольшой, но очень важной подробности. Когда генерал призывал их к атаке, он наполовину вытащил шпагу из ножен, но потом, устыдившись своего мелодраматического порыва, вдвинул ее обратно. Как видите, опять эта шпага!
Слабый полусвет прорывался сквозь сплетение сучьев над головами путников и отбрасывал к их ногам призрачную сеть: они снова приближались к тусклому свету открытого неба. Истина окутывала Фламбо, как воздух, но он не мог выразить ее. Он ответил в замешательстве:
– Что же тут особенного? Офицеры обычно носят шпаги, не так ли?
– В современной войне о них не часто упоминают, – бесстрастно произнес рассказчик, – но в этом деле повсюду натыкаешься на проклятую шпагу.
– Ну и что же из этого? – пробурчал Фламбо. – Дешевая сенсация: шпага старого воина ломается в его последней битве. Готов побиться об заклад, что газеты прямо-таки набросились на этот случай. На всех этих гробницах и тому подобных штуках шпагу генерала всегда изображают с отломанным концом. Надеюсь, вы потащили меня в эту полярную экспедицию не только из-за того, что два романтически настроенных человека видели сломанную шпагу Сент-Клэра?
– Нет! – Голос отца Брауна прозвучал резко, как револьверный выстрел. – Но кто видел шпагу целой?
– Что вы хотите сказать? – воскликнул его спутник и остановился как вкопанный.
Они не заметили, как вышли из серых ворот леса на открытое место.
– Я спрашиваю: кто видел его шпагу целой? – настойчиво повторил отец Браун. – Только не тот, кто писал дневник: генерал вовремя убрал ее в ножны.
Освещенный лунным сиянием, Фламбо огляделся вокруг невидящим взглядом – так человек, пораженный слепотой, смотрит на солнце, – а его товарищ, в голосе которого впервые зазвучали страстные нотки, продолжал:
– Даже обыскав все эти могилы, Фламбо, я ничего не могу доказать. Но я уверен в своей правоте. Разрешите мне добавить к своему рассказу одну небольшую подробность, которая переворачивает все вверх дном. По странной случайности одним из первых пуля поразила полковника. Он был ранен задолго до того, как войска вошли в непосредственное соприкосновение. Но он видел уже сломанную шпагу Сент-Клэра. Почему она была сломана? Как она была сломана? Мой друг, она сломалась еще до сражения!
– О! – заметил его товарищ с напускной веселостью. – А где же отломанный кусок?
– Могу вам ответить, – быстро сказал священник, – в северо-восточном углу кладбища при протестантском соборе в Белфасте.
– В самом деле? – переспросил его собеседник. – Вы уже искали его там?
– Это невозможно, – с искренним сожалением ответил Браун. – Над ним находится большой мраморный памятник – памятник майору Мёррею, который пал смертью храбрых в знаменитой битве при Черной реке.
Казалось, по телу Фламбо пробежал гальванический ток.
– Вы хотите сказать, – сиплым голосом воскликнул он, – что генерал Сент-Клэр ненавидел Мёррея и убил его на поле сражения, потому что…
– Вы все еще полны чистых, благородных предположений, – сказал священник. – Все было гораздо хуже.
– В таком случае, – сказал большой человек, – запас моего дурного воображения истощился.
Священник, видимо, раздумывал, с чего начать, и наконец сказал:
– Где умный человек прячет лист? В лесу.
Фламбо молчал.
– Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес.
Ответа опять не последовало, и священник добавил еще мягче и тише:
– А если ему надо спрятать мертвое тело, он прячет его под грудой мертвых тел.
Фламбо шагал вперед так, словно малейшая задержка во времени или пространстве была ему ненавистна, но отец Браун продолжал говорить, развивая свою последнюю мысль:
– Сэр Артур Сент-Клэр, как я уже упоминал, был одним из тех, кто «читает свою библию». Этим сказано все. Когда наконец люди поймут, что бесполезно читать только свою библию и не читать при этом библии других людей? Наборщик читает свою библию, чтобы найти опечатки; мормон читает свою библию и находит многобрачие; последователь «христианской науки» читает свою библию и обнаруживает, что наши руки и ноги – только видимость. Сент-Клэр был старым англо-индийским солдатом[48] протестантского склада. Подумайте, что это может означать, и, ради всего святого, отбросьте ханжество! Это может означать, что он был распущенным человеком, жил под тропическим солнцем среди отбросов восточного общества и, никем духовно не руководимый, без всякого разбора впитывал в себя поучения восточной книги. Без сомнения, он читал Ветхий Завет охотнее, чем Новый. Без сомнения, он находил в Ветхом Завете все, что хотел найти: похоть, насилие, измену. Осмелюсь сказать, что он был честен в общепринятом смысле слова. Но что толку, если человек честен в своем поклонении бесчестности?
В каждой из таинственных знойных стран, где довелось побывать этому человеку, он заводил гарем, пытал свидетелей, накапливал грязное золото. Конечно, он сказал бы с открытым взором, что делает это во славу Господа. Я выражу свои сокровенные убеждения, если спрошу: какого Господа? Каждый такой поступок открывает новые двери, ведущие из круга в круг по аду. Не в том беда, что преступник становится необузданней и необузданней, а в том, что он делается подлее и подлее. Вскоре Сент-Клэр запутался во взяточничестве и шантаже, ему требовалось все больше и больше золота. Ко времени битвы у Черной реки он пал уже так низко, что место ему было лишь в последнем кругу Данте[49].
– Что вы хотите сказать? – спросил его друг.
– А вот что, – решительно вымолвил священник и вдруг указал на лужицу, затянутую ледком, поблескивающим под лунным светом. – Вы помните, кого Данте поместил в последнем, ледяном кругу ада?
– Предателей, – сказал Фламбо и невольно вздрогнул. Он обвел взглядом безжизненные, дразняще-бесстыдные деревья и на миг вообразил себя Данте, а священника с журчащим, как ручеек, голосом – Вергилием, своим проводником в краю вековечных грехов.
Голос продолжал:
– Как известно, Оливье отличался донкихотством: он запретил секретную службу и шпионаж. Однако запрещение, как это часто бывает, обходили за его спиной. И нарушителем был не кто иной, как наш старый друг Эспадо, тот самый пестро одетый хлыщ, которого прозвали Стервятником за его крючковатый нос. Напялив на себя маску благотворителя, он прощупывал солдат английской армии, пока не натолкнулся на единственного продажного человека. И, о Боже, он оказался тем, кто стоял на самом верху! Генералу Сент-Клэру позарез требовались деньги – целые горы денег. Незадачливый врач Сент-Клэров уже тогда угрожал теми необычайными разоблачениями, с которыми выступил впоследствии, но почему-то они были внезапно прекращены; носились слухи о чудовищных злодеяниях, совершенных некогда английским евангелистом с Парк-лейн[50], – преступлениях ничуть не менее гнусных, чем человеческие жертвоприношения или продажа людей в рабство. К тому же деньги нужны были на приданое дочери; слава, которая сопутствует богатству, была ему так же дорога, как само богатство. Порвав последнюю нить, он шепнул слово бразильцам – и золото потекло к нему от врагов Англии. Но не только он, еще один человек говорил с Эспадо-Стервятником. Каким-то образом угрюмый молодой майор из Ольстера сумел догадаться об этой отвратительной сделке, и, когда они не спеша двигались по дороге к мосту, Мёррей заявил генералу, что тот должен немедленно выйти в отставку, иначе он будет судим военно-полевым судом и расстрелян.
Генерал оттягивал решительный ответ, пока они не подошли к тропической роще у моста. И здесь, на берегу журчащей реки, у залитых солнцем пальм, – я отчетливо вижу это, генерал выхватил шпагу и заколол майора…
Лютый мороз сковал зимнюю дорогу, окаймленную зловещими черными кустами и деревьями. Путники приближались к тому месту, где дорога переваливала через гребень холма, и Фламбо увидел далеко впереди неясный ореол, возникший не от лунного или звездного света, а от огня, зажженного человеческой рукой. Рассказ уже близился к концу, а он все не мог оторвать взгляд от далекого огонька.
– Сент-Клэр был исчадием ада, сущим исчадием ада. Никогда – я готов в этом поклясться! – не проявил он такой ясности ума и такой силы воли, как в ту минуту, когда бездыханное тело бедного Мёррея лежало у его ног. Никогда, ни в одном из своих триумфов, как правильно отметил капитан Кейт, не был так прозорлив этот одареннейший человек, как в последнем позорном сражении. Он хладнокровно осмотрел свое оружие, чтобы убедиться, что на нем не осталось следов крови, и увидел, что конец шпаги, которой он заколол Мёррея, отломался и остался в теле жертвы. Спокойно – так, словно он глядел на происходящее из окна клуба, – Сент-Клэр обдумал все возможные последствия. Он понял, что рано или поздно люди найдут подозрительный труп, извлекут подозрительный обломок, заметят подозрительную сломанную шпагу. Он убил, но не заставил замолчать. Его могучий разум восстал против этого непредвиденного затруднения; оставался еще один выход: сделать труп менее подозрительным, скрыть его под горою трупов! Через двадцать минут восемьсот английских солдат двинулись навстречу гибели…
Теплый свет, мерцающий за черным зимним лесом, стал сильнее и ярче, и Фламбо зашагал быстрее. Отец Браун также ускорил шаг, но казалось, он целиком поглощен своим рассказом.
– Таково было мужество этих английских солдат и таков гений их командира, что, если бы они без промедления атаковали холм, сумасшедший бросок мог бы увенчаться успехом. Но у злой воли, которая играла ими, как пешками, была совсем другая цель. Они должны были торчать в топях у моста до тех пор, пока трупы британских солдат не станут привычным зрелищем. Потом – величественная заключительная сцена: седовласый солдат, непорочный, как святой, отдает свою сломанную шпагу, чтобы прекратить дальнейшее кровопролитие. О, для экспромта это было недурно выполнено! Но я предполагаю – не могу этого доказать, – я предполагаю, что, пока они сидели в кровавой трясине, у кого-то зародились сомнения и кто-то угадал правду… – Он замолчал, а потом добавил: – Внутренний голос подсказывает мне, что это был жених его дочери, ее будущий муж.
– Но почему же тогда Оливье повесил Сент-Клэра? – спросил Фламбо.
– Отчасти из рыцарства, отчасти из политических соображений Оливье редко обременял свои войска пленными, – объяснил рассказчик. – В большинстве случаев он всех отпускал. И в тот раз он отпустил всех.
– Всех, кроме генерала, – поправил высокий человек.
– Всех, – повторил священник.
Фламбо нахмурил черные брови.
– Я не совсем понимаю вас, – сказал он.
– А теперь я нарисую вам другую картину, Фламбо, – таинственным полушепотом начал Браун. – Я ничего не могу доказать, но – и это важнее! – я вижу все. Представьте себе военный лагерь, который снимается поутру с голых, выжженных зноем холмов, и мундиры бразильцев, выстроенных в походные колонны. На ветру развеваются красная рубаха и длинная черная борода Оливье, в руке он держит широкополую шляпу. Он прощается со своим врагом и отпускает его на свободу – простого английского ветерана с белой как снег головой, который благодарит его от имени своих солдат. Оставшиеся в живых англичане стоят навытяжку позади генерала, рядом – запасы провианта и повозки для отступления. Рокочут барабаны – бразильцы трогаются в путь, англичане стоят как изваяния. Они не шевелятся до того момента, пока бразильцы не скрываются за тропическим горизонтом и не затихает топот их ног. Тогда, встрепенувшись, они сразу ломают строй; к генералу обращаются пятьдесят лиц – лиц, которые нельзя забыть.
Фламбо подскочил от возбуждения.
– О! – воскликнул он. – Неужели?..
– Да, – сказал отец Браун глубоким взволнованным голосом. – Это рука англичанина накинула петлю на шею Сент-Клэра, – думаю, та же рука, которая надела кольцо на палец его дочери. Это руки англичан подтащили его к древу позора, руки тех самых людей, которые преклонялись перед ним и шли за ним, веря в победу. Это глаза англичан – да простит и укрепит нас Господь – смотрели на него, когда он висел в лучах чужеземного солнца на зеленой виселице-пальме! И это англичане молились о том, чтобы душа его провалилась прямо в ад.
Как только путники достигли гребня холма, навстречу им хлынул яркий свет, пробивавшийся сквозь красные занавески гостиничных окон. Гостиница стояла у обочины дороги, маня прохожих своим гостеприимством. Три ее двери были приветливо раскрыты, и даже с того места, где стояли отец Браун и Фламбо, слышались говор и смех людей, которым посчастливилось найти приют в такую ночь.
– Вряд ли нужно рассказывать о том, что случилось дальше, – сказал отец Браун. – Они судили его и там же, на месте, казнили; потом, ради славы Англии и доброго имени его дочери, поклялись молчать о набитом кошельке изменника и сломанной шпаге убийцы. Должно быть – помоги им в этом небо! – они попытались обо всем забыть. Попытаемся забыть и мы. А вот и гостиница.
– Забыть? С удовольствием! – сказал Фламбо. Он уже стоял перед входом в шумный, ярко освещенный бар, как вдруг попятился и чуть не упал. – Посмотрите-ка, что за чертовщина! – закричал он, указывая на прямоугольную деревянную вывеску над входом. На ней красовалась грубо намалеванная шпага с укороченным лезвием и псевдоархаичными буквами было начертано: «Сломанная шпага».
– Что ж тут такого? – пожал плечами отец Браун. – Он – кумир всей округи; добрая половина гостиниц, парков и улиц названа в честь генерала и его подвигов.
– А я-то думал, мы покончили с этим прокаженным! – вскричал Фламбо и сплюнул на дорогу.
– В Англии с ним никогда не покончат, – ответил священник, – до тех пор пока тверда бронза и не рассыпался камень. Столетиями его мраморные статуи будут вдохновлять души гордых наивных юношей, а его сельская могила станет символом верности, подобно цветку лилии. Миллионы людей, никогда не знавших его, будут, как родного отца, любить этого человека, с которым поступили как с дерьмом, те, кто его знал. Его будут почитать как святого и никто не узнает правды – так я решил. В разглашении тайны много и плохих и хороших сторон, – правильность своего решения я проверю на опыте. Все эти газеты исчезнут, антибразильская шумиха уже кончилась, к Оливье повсюду относятся с уважением. Но я дал себе слово: если хоть где-нибудь появится надпись – на металле или на мраморе, долговечном, как пирамиды, – несправедливо обвиняющая в смерти генерала полковника Кланси, капитана Кийта, президента Оливье или другого невинного человека, тогда я заговорю. А если все ограничится незаслуженным восхвалением Сент-Клэра, я буду молчать. И я сдержу свое слово!
Они вошли в таверну, которая оказалась не только уютной, но даже роскошной. На одном из столов стояла серебряная копия памятника с могилы Сент-Клэра – серебряная голова склонена, серебряная шпага сломана. Стены таверны были увешаны цветными фотографиями: одни изображали все ту же гробницу, другие – экипажи, в которых приезжали осматривать ее туристы. Отец Браун и Фламбо уселись в удобные мягкие кресла.
– Ну и холод! – воскликнул отец Браун – Выпьем вина или пива?
– Лучше бренди, – сказал Фламбо.
Три орудия смерти[51]
По роду своей деятельности, а также и по убеждениям отец Браун лучше, чем большинство из нас, знал, что всякого человека удостаивают почестей и всяческого внимания, когда человек этот мертв. Но даже он был потрясен дикой нелепостью происшедшего, когда на рассвете его подняли с постели и сообщили, что сэр Арон Армстронг стал жертвой убийства. Было что-то бессмысленное и постыдное в тайном злодеянии, совершенном над столь обворожительной и прославленной личностью. Ведь сэр Арон был обворожителен до смешного, а слава его стала почти легендарной. Новость произвела такое впечатление, словно вдруг стало известно, что Солнечный Джим[52] повесился или мистер Пиквик умер в Хэнуолле[53]. Дело в том, что, хотя сэр Арон и был филантропом, а стало быть, соприкасался с темными сторонами нашего общества, он гордился тем, что соприкасается с ними в духе самого искреннего добродушия, какое только возможно. Его речи на политические и общественные темы представляли собой каскад шуток и «громового смеха»; его здоровье было поистине цветущим; его нравственность зиждилась на неистребимом оптимизме; соприкасаясь с проблемой пьянства (это была излюбленная тема его рассуждений), он выказывал неувядаемую и даже несколько однообразную веселость, столь часто присущую человеку, который в рот не берет спиртного и не испытывает ни малейшей потребности выпить.
Общеизвестную историю его обращения в трезвенники постоянно поминали с самых пуританских трибун и кафедр, рассказывая, как он еще в раннем детстве был отвлечен от шотландского богословия пристрастием к шотландскому виски, как он вознесся превыше того и другого и стал (по собственному его скромному выражению) тем, что он есть. Правда, глядя на его пышную седую бороду, лицо херувима и очки, поблескивающие на бесчисленных обедах и заседаниях, где он неизменно присутствовал, трудно было поверить, что он мог когда-либо являть собою нечто столь тошнотворное, как умеренно пьющий человек или истовый кальвинист. Сразу чувствовалось, что это самый серьезный весельчак из всех представителей рода человеческого.
Жил он в тихом предместье Хэмпстеда, в красивом особняке, высоком, но очень тесном, с виду похожем на башню, вполне современную и ничем не примечательную. Самая узкая из всех узких стен этого дома выходила прямо к крутой, поросшей дерном железнодорожной насыпи и содрогалась всякий раз, когда мимо проносились поезда. Сэр Арон Армстронг, как с большой горячностью уверял он сам, был человеком, совершенно лишенным нервов. Но если проходящий поезд часто потрясал дом, то в это утро все было наоборот, – дом причинил потрясение поезду.
Локомотив замедлил ход и остановился в том самом месте, где угол дома нависал над крутым травянистым откосом. Остановить эту самую бездушную из мертвых машин удается далеко не сразу; но живая душа, бывшая причиной остановки, действовала поистине стремительно. Некий человек, одетый во все черное, вплоть до (как запомнилось очевидцам) такой мелочи, как леденящие душу черные перчатки, вынырнул словно из-под земли у края железнодорожного полотна и замахал черными руками, словно какая-то жуткая мельница. Сами по себе подобные действия едва ли могли бы остановить поезд даже на малом ходу. Но при этом человек испустил вопль, который впоследствии описывали как нечто совершенно дикое и нечеловеческое. Вопль был из тех звуков, которые едва внятны, даже если они слышны вполне отчетливо. В данном случае было выкрикнуто слово: «Убийство!»
Однако машинист клянется, что остановил бы поезд в любом случае, даже если бы услышал не слово, а лишь зловещий, неповторимый голос, который его выкрикнул.
Едва поезд затормозил, сразу же обнаружились многие подробности недавней трагедии. Мужчина в черном, появившийся на краю зеленого откоса, был лакей сэра Арона Армстронга, угрюмый человек по имени Магнус. Баронет со свойственной ему беззаботностью частенько посмеивался над черными перчатками своего мрачного слуги; но теперь никто не склонен был над ними смеяться.
Когда несколько любопытствующих спустились с насыпи и прошли за почернелую от сажи изгородь, они увидели скатившееся почти до самого низу откоса тело старика в желтом домашнем халате с ярко-алой подкладкой. Нога убитого была захлестнута веревочной петлей, накинутой, по-видимому, во время борьбы. Были замечены и пятна крови, правда, весьма немногочисленные; но труп был изогнут или, вернее, скорчен и лежал в позе, какую немыслимо принять живому существу. Это и был сэр Арон Армстронг. Через несколько минут подоспел рослый светлобородый человек, в котором кое-кто из ошеломленных пассажиров признал личного секретаря покойного, Патрика Ройса, некогда хорошо известного в богемных кругах и даже прославленного в богемных искусствах. Выказывая свои чувства более неопределенным, но при этом и более убедительным образом, он стал вторить горестным причитаниям лакея. А когда из дома появилась еще и третья особа, Элис Армстронг, дочь умершего, которая бежала неверными шагами и махала рукой в сторону сада, машинист решил, что далее медлить нельзя. Он дал свисток, и поезд, пыхтя, тронулся к ближайшей станции за помощью.
Так получилось, что отца Брауна срочно вызвали по просьбе Патрика Ройса, этого рослого секретаря, в прошлом связанного с богемой. По происхождению Ройс был ирландец; он принадлежал к числу тех легкомысленных католиков, которые никогда и не вспоминают о своем вероисповедании, покуда не попадут в отчаянное положение. Но вряд ли просьбу Ройса исполнили бы так быстро, не будь один из официальных сыщиков другом и почитателем непризнанного Фламбо: ведь невозможно быть другом Фламбо и при этом не наслушаться бесчисленных рассказов про отца Брауна. А посему когда молодой сыщик (чья фамилия была Мертон) вел маленького священника через поля к линии железной дороги, беседа их была гораздо доверительнее, нежели можно было бы ожидать от двоих совершенно незнакомых людей.
– Насколько я понимаю, – заявил Мертон без обиняков, – разобраться в этом деле просто немыслимо. Тут решительно некого заподозрить. Магнус – напыщенный старый дурак; он слишком глуп для того, чтобы совершить убийство. Ройс вот уже много лет был самым близким другом баронета, ну а дочь, без сомнения, души не чаяла в своем отце. И, помимо прочего, все это – сплошная нелепость. Кто стал бы убивать старого весельчака Армстронга? У кого поднялась бы рука пролить кровь безобидного человека, который так любил застольные разговоры? Ведь это все равно что убить рождественского деда.
– Да, в доме у него действительно царило веселье, – согласился отец Браун. – Веселье это не прекращалось, покуда хозяин оставался в живых. Но как вы полагаете, сохранится ли оно теперь, после его смерти?
Мертон слегка вздрогнул и взглянул на собеседника с живым любопытством.
– После его смерти? – переспросил он.
– Да, – бесстрастно продолжал священник, – хозяин-то был веселым человеком. Но заразил ли он своим весельем других? Скажите откровенно, есть ли в доме еще хоть один веселый человек, кроме него?
В мозгу у Мертона словно приоткрылось оконце, и через него проник тот странный проблеск удивления, который вдруг проясняет то, что было известно с самого начала. Ведь он часто заходил к Армстронгам по делам, которые старый филантроп вел с полицией; и теперь он вспомнил, что атмосфера в доме действительно была удручающая. В комнатах с высокими потолками стоял холод; обстановка отличалась дурным вкусом и дешевой провинциальностью; в коридорах, где гулял сквозняк, горели слабые электрические лампочки, светившие не ярче луны. И хотя румяная физиономия старика, обрамленная серебристо-седой бородой, озаряла ярким костром каждую комнату и каждый коридор, она не оставляла по себе ни капли тепла. Разумеется, это ощущение могильного холода до известной степени порождалось самою жизнерадостностью и кипучестью владельца дома; ему не нужны печи или лампы, сказал бы он, потому что его согревает собственное тепло. Но когда Мертон вспомнил других обитателей дома, ему пришлось признать, что они были лишь тенями хозяина. Угрюмый лакей с его чудовищными черными перчатками вполне мог бы привидеться в ночном кошмаре; Ройс, личный секретарь, здоровяк в твидовых брюках, смахивающий на быка, носил коротко подстриженную бородку, но в этой соломенно-желтой бородке уже странным образом пробивалась ранняя седина, а широкий лоб избороздили морщины. Конечно, он был вполне добродушен, но добродушие это было какое-то печальное, почти скорбное, – у него был такой вид, словно в жизни его постигла жестокая неудача. Ну а если взглянуть на дочь Армстронга, трудно поверить, что она и в самом деле приходится ему дочерью; лицо у нее такое бледное, с болезненными чертами. Она не лишена изящества, но во всем ее облике ощущается затаенный трепет, который делает ее похожей на осу. Иногда Мертон думал, что она, вероятно, очень пугается грохота проходящих поездов.
– Видите ли, – сказал отец Браун, едва заметно подмигивая, – я отнюдь не уверен, что веселость Армстронга доставляла большое удовольствие… м-м… его ближним. Вот вы говорите, что никто не мог убить такого славного старика, а я в этом далеко не убежден: ne nos inducas in temptatione[54]. Я лично если бы и убил человека, – добавил он с подкупающей простотой, – то уж непременно какого-нибудь оптимиста, смею заверить.
– Но почему? – вскричал изумленный Мертон. – Неужели вы считаете, что людям не по душе веселый нрав?
– Людям по душе, когда вокруг них часто смеются, – ответил отец Браун, – но я сомневаюсь, что им по душе, когда кто-либо всегда улыбается. Безрадостное веселье очень докучливо.
На этом разговор оборвался, и некоторое время они молча шли, обдуваемые ветром, вдоль рельсов по травянистой насыпи, а когда добрались до длинной тени от дома Армстронга, отец Браун вдруг сказал с таким видом, словно хотел отбросить тревожную мысль, а вовсе не высказать ее всерьез:
– Разумеется, в пристрастии к спиртному как таковом нет ни хорошего, ни дурного. Но иной раз мне невольно приходит на ум, что людям вроде Армстронга порою нужен бокал вина, чтобы стать немного печальней.
Начальник Мертона по службе, седовласый сыщик с незаурядными способностями, стоял на травянистом откосе, дожидаясь следователя, и разговаривал с Патриком Ройсом, чьи могучие плечи и всклокоченная бородка возвышались над его головою. Это было тем заметней еще и потому, что Ройс имел привычку слегка горбить крепкую спину и, когда отправлялся по церковным или домашним делам, двигался тяжело и неторопливо, словно буйвол, запряженный в прогулочную коляску.
При виде священника Ройс с несвойственной ему приветливостью поднял голову и отвел его на несколько шагов в сторону. А Мертон тем временем обратился к старшему сыщику не без почтительности, но по-мальчишески нетерпеливо:
– Ну как, мистер Гилдер, далеко ли вы продвинулись в раскрытии этой тайны?
– Никакой тайны здесь нет, – отозвался Гилдер, сонно щурясь на грачей, которые сидели поблизости.
– Ну, мне, по крайней мере, кажется, что тайна все же есть, – возразил Мертон с улыбкой.
– Дело совсем простое, мой мальчик, – обронил старший сыщик, поглаживая седую остроконечную бородку. – Через три минуты после того, как вы по просьбе мистера Ройса отправились за священником, вся история стала ясна как день. Вы знаете одутловатого лакея в черных перчатках, того самого, который остановил поезд?
– Как не знать. При виде его у меня мурашки поползли по коже.
– Итак, – промолвил Гилдер, – когда поезд исчез из виду, человек этот тоже исчез. Вот уж поистине хладнокровный преступник! Удрал на том самом поезде, который должен был вызвать полицию, ведь ловко?
– Стало быть, вы совершенно уверены, – заметил младший сыщик, – что он действительно убил своего хозяина?
– Да, сынок, совершенно уверен, – ответил Гилдер сухо, – уже хотя бы по той пустяковой причине, что он прихватил двадцать тысяч фунтов наличными из письменного стола. Нет, теперь единственное затруднение, если только это вообще можно так назвать, состоит в том, чтобы выяснить, как именно он его убил. Похоже, что череп проломлен каким-то тяжелым предметом, но поблизости тяжелых предметов не обнаружено, а унести оружие с собой было бы для убийцы обременительно, разве что оно очень маленькое и потому не привлекло внимания.
– Возможно, оно, напротив, очень большое и потому не привлекло внимания, – произнес маленький священник со странным, отрывистым смешком.
Услышав такую нелепость, Гилдер повернулся и сурово спросил отца Брауна, как понимать его слова.
– Я сам знаю, что выразился глупо, – сказал отец Браун со смущением. – Получается как в волшебной сказке. Но бедняга Армстронг убит дубиной, которая по плечу только великану, большой зеленой дубиной, очень большой и потому незаметной, ее обычно называют землей. Он расшибся насмерть вот об эту зеленую насыпь, на которой мы сейчас стоим.
– Куда это вы клоните? – с живостью спросил сыщик.
Отец Браун обратил круглое, как луна, лицо к фасаду дома и поглядел вверх, близоруко сощурив глаза. Проследив за его взглядом, все увидели на самом верху этой глухой части дома, в мезонине, распахнутое настежь окно.
– Разве вы не видите, – сказал он, указывая на окно пальцем с какой-то детской неловкостью, – что он упал вон оттуда?
Гилдер, насупясь, глянул на окно и произнес:
– Да, это вполне вероятно. Но я все-таки не понимаю, откуда у вас такая уверенность.
Отец Браун широко открыл серые глаза.
– Ну как же, – сказал он, – ведь на ноге у трупа обрывок веревки. Разве вы не видите, что вон там из окна свисает другой обрывок?
На такой высоте все предметы казались крохотными пылинками или волосками, но проницательный старый сыщик остался доволен объяснением.
– Вы правы, сэр, – сказал он отцу Брауну. – Очко в вашу пользу.
Едва он успел вымолвить эти слова, как экстренный поезд, состоявший из единственного вагона, преодолел поворот слева от них, остановился и изверг из себя целый отряд полисменов, среди которых виднелась отталкивающая рожа Магнуса, беглого лакея.
– Вот это ловко, черт возьми! Его уже арестовали! – вскричал Гилдер и устремился вперед с неожиданной живостью.
– А деньги были при нем? – крикнул он первому полисмену.
Тот посмотрел ему в лицо несколько странным взглядом и ответил:
– Нет. – Помолчав, он добавил: – По крайней мере, здесь их нету.
– Кто будет инспектор, осмелюсь спросить? – сказал меж тем Магнус.
Едва он заговорил, все сразу поняли, почему его голос остановил поезд. Внешне это был человек мрачного вида, с прилизанными черными волосами, с бесцветным лицом, чуть раскосыми, как у жителей Востока, глазами и тонкогубым ртом. Его происхождение и настоящее имя вряд ли были известны с тех пор, как сэр Арон «спас» его от работы официанта в лондонском ресторане, а также (как утверждали некоторые) заодно и от других, куда более неблаговидных обстоятельств. Но голос у него был столь же впечатляющий, сколь лицо казалось бесстрастным. То ли из-за тщательности, с которой он выговаривал слова чужого языка, то ли из предупредительности к хозяину (который был глуховат) речь Магнуса отличалась необычайной резкостью и пронзительностью, и когда он заговорил, окружающие чуть не подскочили на месте.







