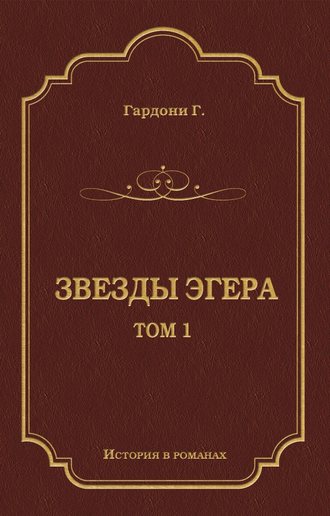
Геза Гардони
Звезды Эгера. Т. 1
© ООО ТД «Издательство Мир книги», 2011
© ООО «РИЦ Литература», 2011
* * *
Часть первая. Вот где венгерские витязи родятся!
I
Мальчик и девочка купались в речке. Может, им и не пристало купаться вместе, но этого они еще не знали: мальчику было семь лет, а девочке пять.
По лесу пошли – на речку набрели. Солнце жарко припекало. В заводи речной вода озерком разлилась, озерко понравилось детям.
Сперва они окунали только ноги, потом зашли в воду по колени. Штанишки у Гергея намокли, он скинул их, сбросил и рубашонку, и вот уже оба голенькие плещутся в воде.
Пусть себе плещутся, кто их увидит! Дорога на Печ проходит поодаль, за деревьями, а в лесу ни души. Ох, и досталось бы им на орехи, если бы кто-нибудь их увидел! Мальчик еще куда ни шло, он не барич. Но девочка – из господского дома, дочка самого Петера Цецеи, барышня! А удрала из дому без спроса.
По ней сразу видно, что барский птенчик – вся беленькая, точно сметана. Прыгает в воде, а белокурые косички так и взлетают над тоненькой шейкой.
– Гергё! – смеясь, окликнула она мальчика.
– Поплывем!
Худенький смуглый Гергей подставил спину девочке, та обняла его за шею, и мальчик устремился к берегу, а малышка, дрыгая ножками, закачалась на воде.
Подплыв к берегу, Гергей схватил осоку за зеленый чуб и тревожно оглянулся вокруг.
– Ой, а где же Серый?
Он вылез из воды, обежал все кругом, пошел рыскать между деревьями, шарить глазами по земле: нет ли где следов?
– Подожди, Вицушка, подожди, я сейчас вернусь! – крикнул он девочке и голышом помчался по конским следам к печской дороге.
Вскоре он вернулся верхом на старом сером коне, взнузданном какой-то жалкой пеньковой уздечкой. Уздечка была привязана к ноге коня, да развязалась.
Мальчик молча стегал Серого веткой кизила. Он побледнел от испуга, то и дело оглядывался. Добравшись до реки, обхватил шею коня и соскользнул на землю.
– Спрячемся! – шепнул он девочке, весь дрожа. – Спрячемся! Турок идет!
Мигом привязал он коня к дереву, собрал одежду, и они нагишом побежали к боярышнику, спрятались за кустом, зарылись в опавшую листву.
В те времена турок нередко можно было встретить на дорогах. Ты, милый читатель, ошибаешься, если думаешь, что двое ребятишек купались в речке нынче летом. Где они теперь – и эти ребятки, и турки, да и все прочие люди, которые предстанут перед тобой в этой книге, будут ходить, говорить, смеяться или плакать? Все они давным-давно стали прахом…
Любезный мой читатель, отложи-ка в сторону свой календарь и мысленно возьми в руки календарь 1533 года. Представь себе, что сейчас май месяц 1533 года и в Венгрии владычествуют и король Янош, и турки, и Фердинанд I[1].
Маленькая деревушка, откуда родом эти ребятки, приютилась в одном из ущелий Мечека. Тридцать мазанок и большой каменный дом – вот и вся деревня. Окна и в барском доме и в мазанках затянуты промасленным полотном, а в остальном крестьянские постройки ничем не отличаются от нынешних лачуг, крытых соломой.
Деревенька стоит в густой чаще, и жители ее думают, что турки никогда к ним не доберутся. Да и как добраться? Дорога крутая, колесных следов не видно, колокольни и то нет. Люди живут и помирают в этом глухом уголке, точно муравьи в лесу.
Отец Гергё был кузнецом в Пече. Когда он скончался, мать забилась сюда, в Керестешфальву, вместе со своим отцом – старым, седым крестьянином, участником восстания Дёрдя Дожи[2]. Потому и приютил его у себя хозяин деревни – Цецеи.
Дед пробирался иногда лесом в Печ за подаянием – на это и жили они всю зиму. Кое-что, правда, перепадало и с барского стола.
Вот и в тот день старик вернулся из города.
– Попаси-ка Серого, – велел он внуку, – бедняга с утра не евши. Да напои его в речке.
Гергё направился с конем на опушку леса. По дороге, когда он проходил мимо барского дома, из садовой калитки выскочила малютка Эва:
– Гергё, Гергё, можно и я с тобой пойду?
Гергё не посмел отказать барышне. Он слез с коня и повел Эву, куда ей захотелось. А захотелось девочке пуститься вслед за бабочками. Бабочки же полетели в лес, и ребятишки побежали за ними. Наконец Гергё увидел речку и пустил коня пастись. Так попали они в речку, а из речки – за куст боярышника.
Теперь оба притаились: турка боятся!
И не зря боятся. Вот послышался треск сухих сучьев, и между деревьями показались белый турецкий колпак со страусовым пером и лошадиная морда.
Турок огляделся, повертел головой. Взгляд его остановился на сером коне. Своего низкорослого гнедого он вел в поводу.
Теперь турка хорошо было видно. Смуглый человек с костлявым лицом. На плечах у него светло-коричневый плащ, на голове островерхий белый колпак. Один глаз завязан белым платком, вторым он разглядывал привязанного к дереву серого коня. Конь ему не понравился – это видно было по лицу турка, – и все же он отвязал его.
Куда больше пригодился бы турку мальчик, которого он видел на коне. На мальчиков спрос хороший. На константинопольском невольничьем рынке за него втрое дадут. Но парнишки нет нигде.
Турок заглянул за деревья, осмотрел ветки, потом крикнул по-венгерски:
– Мальчик, где ты? Выйди, дружочек! Я дам тебе инжиру… Не бойся, иди сюда!
Но ребенок не показывался.
– Да выйди же! Не бойся, я тебя не трону… Не хочешь, значит, выйти? Тогда я уведу твоего коня.
Он на самом деле взял обоих коней за поводья и скрылся с ними среди деревьев.
Дети, побледнев, молча слушали турка. Никакими обещаниями инжира не разогнать было их ужаса. Слишком часто слышали они дома: «Вот турок тебя заберет!» – и разные страшные сказки о турках. Приманками их не возьмешь! Но когда турок пригрозил, что уведет коня, Гергё пошевельнулся. Он взглянул на Эвицу, точно ожидая от нее совета. Лицо его исказилось, будто он наступил на колючку.
Серого уводят! Что скажут дома, если он вернется без коня?
Но малышка Эва оставила без ответа все его сомнения. Белая как полотно, сжалась она возле него в комочек, и большие кошачьи ее глаза от ужаса подернулись слезами.
А Серый уходил. Гергё слышал крупные, ленивые шаги своего коня. Сухая листва однозвучно шуршала под копытами. Стало быть, турок и вправду уводил коня.
– Серый… – всхлипнул Гергё, и уголки его губ опустились.
Он поднял голову.
Уходит Серый, уходит. Валежник так и трещит у него под копытами… О, глупый!..
И вот уже страха как не бывало. Гергей вскочил и голышом понесся вслед за похитителем.
– Дядя! – крикнул он дрожа. – Дядя турок!
Турок остановился, ухмыльнулся.
Ой, какой уродина! Оскалился, словно укусить хочет.
– Дядя, отдай Серого… – пролепетал Гергей сквозь слезы. – Серый-то наш конь…
И мальчик остановился шагах в двадцати от турка.
– А коли ваш, иди сюда, – ответил турок, – и возьми его.
Он кинул повод Серого.
Ребенок видел сейчас только своего коня, и когда тот нехотя тронулся с места, Гергей подскочил к нему и схватил за повод.
В тот же миг схватили и его самого. Большая, сильная рука турка сжала тонкую голую ручонку, и мальчик взлетел на гнедого коня, прямо в седло.
Гергё завизжал.
– Цыц! – гаркнул турок, выхватив кинжал.
Но Гергё кричал еще истошнее:
– Вицушка! Вицушка!
Турок обернулся посмотреть, кого зовет мальчик. Рука его сжала кинжал.
Когда же из травы высунулся второй голенький ребенок, турок сунул кинжал в ножны и улыбнулся.
– Иди, иди сюда, – сказал он, – я тебя не трону. – И, потянув коней за поводья, направился к девочке.
Гергё попытался слезть с коня, но турок звонко шлепнул его по спине. Гергё заревел, однако остался на месте, а турок, бросив коней, побежал за девочкой.
Бедняжка Вица и рада бы убежать, да ножки у нее короткие, а трава высокая. Она споткнулась, упала и мгновение спустя визжала и билась в руках турка.
– Цыц! – шлепнул ее турок. – Цыц, молчи! А то я тебя съем. Гам-гам!
Девочка умолкла, и только сердечко ее колотилось, точно у воробышка, зажатого в руке.
Но когда подошли к лошадям, девочка снова закричала:
– Папочка! Папа!
Тому, кто попал в беду, всегда ведь кажется, что вопль его будет услышан и в самой дальней дали.
Гергё тоже тер кулаками глаза и ревел во весь голос:
– Я пойду домой! Я хочу домой!
– Молчи, поганый ублюдок! – заорал на него турок. – Вот сейчас разорву тебя пополам!
И он угрожающе потряс кулаком.
Дети притихли. Девочка была почти в беспамятстве от страха. Гергё сидел на гнедом коне турка и тихонько всхлипывал.
Они тронулись в путь.
Выехали из лесу. Гергё видел, как вверх по дороге, через Мечек тянутся обозы и рядом с ними скачут верхом пестро наряженные турки – конные акынджи[3], идут пешие асабы[4], наемники в разношерстной одежде. Сидя на быстрых низкорослых лошадках, всадники скакали к Печу.
Люди, шедшие впереди, сопровождали около десяти повозок и телег. На телегах в беспорядке навалены были перины, одеяла, покрывала, шкафы, кровати, бочки, стулья, звериные шкуры и мешки с зерном. Рядом с телегами, скорбно опустив голову, плелись невольники. Руки у всех были закручены за спину, ноги скованы цепями.
У нашего янычара[5] были три телеги и семь невольников. Кроме него шли еще пять янычар в синих шароварах, красных башмаках и белых колпаках, в которые спереди были засунуты костяные ложки. У одного, правда, в колпаке торчала деревянная ложка. Тут же шли и три асаба в меховых шапках и с длинными копьями в руках. На колпаке нашего кривого янычара колыхалось запыленное белое страусовое перо, свисавшее чуть не до середины его спины.
Пока янычар был в лесу, все три его телеги стояли у обочины дороги, пропуская остальных. Турки ехали к себе домой.
Ребятишек и серого коня янычары встретили дружным смехом.
Что они лопочут там по-турецки – Гергё невдомек. Но, видно, они говорят о нем, о Вицушке и о коне. Только посмотрят на него и на Вицушку – улыбаются. А как взглянут на коня – руками машут, точно от мухи отмахиваются.
Турок бросил обоих ребятишек на телегу, прямо на узлы с мягкой рухлядью. Там сидела толстощекая девушка-невольница, ноги у нее были скованы цепями. Ей турок и поручил детей. Затем один из янычар развязал грязный мешок и вытащил из него всякую детскую одежонку. Тут и юбчонка, и сермяга, и безрукавка с плоскими медными пуговицами, и шапка, и шляпа, и маленькие сапожки. Турок отобрал две рубашонки, маленькую сермягу и швырнул их на телегу.
– Одень ребят! – приказал девушке одноглазый.
Девушке-крестьянке на вид лет семнадцать. Одевая ребятишек, она целовала, обнимала их. На глазах у нее были слезы.
– Как зовут тебя, ангелочек мой?
– Вицушка.
– А тебя, душенька?
– Гергё.
– Не плачьте, милые, я буду с вами.
– Домой хочу, – проговорил Гергё сквозь слезы.
– И я тоже домой… – всхлипывая, залепетала Вицушка.
Дети прижались к девушке. Вица прильнула к ее груди. Гергё притулился сбоку. Девушка обхватила их обеими руками, целовала, гладила раскрасневшиеся и мокрые от слез личики.
2
Деревенские собаки, сердито тявкая, наскакивают на седобородого, длинноволосого паломника. Не размахивай он своим высоким посохом с крестом наверху, они, верно, стащили бы с него и сутану.
Сперва паломник шел посреди дороги, но, увидев, что злых лохматых собак становится все больше и больше, отступил к плетню и, размахивая палкой, остановился в ожидании – авось кто-нибудь да освободит его из-под осады.
Но всех, кто выскочил на громкий лай, привлекло другое: по деревне мчались венгерские витязи. Их было пять человек. Впереди скакал белокурый богатырь в красном плаще. На шапке у него журавлиное перо, поперек седла лежит ружье. Из-под легкого вишневого камзола поблескивает кольчуга. Вслед за ним мчатся четверо витязей. Въехав в деревню, они оглядываются по сторонам, точно каждый домик здесь им в диковинку.
У ворот господского дома, примостившись на камне, дремлет старик крестьянин, сжимая в руке пику. Пробудившись от конского топота, он поспешно распахивает ворота, и всадники, проскакав по мосту, въезжают во двор…
Цецеи сидит в тени амбара, съежившись, точно старый орел. Тут же несколько его крепостных крестьян стригут овец. В руках у них ножницы, но у пояса висят сабли. Так жили в Венгрии в те времена.
Заметив витязей, Цецеи встает и, ковыляя, идет им навстречу. Походка у старого барина чудная: одна нога не сгибается в колене, другая в щиколотке. Да и как им сгибаться, раз обе они деревянные! Нет у старика и одной руки – рукав полотняного камзола болтается. Лицо Цецеи заросло седой бородой, седые волосы спадают до плеч.
Витязь с журавлиным пером на шапке соскочил с коня. Бросив повод солдату, он поспешно подошел к Цецеи и, щелкнув каблуками, представился:
– Иштван Добо.
Добо – рослый ширококостный мужчина. Рот у него большой, губы тонкие, волевые, и кажется, будто Добо, словно горячий конь, всегда грызет невидимые удила. Властные серые глаза смотрят пристально. Каждое движение его исполнено силы, а походка упругая, точно у Добо стальные мышцы ног.
Цецеи спрятал руку за спину.
– Ты у кого служишь? – Глаза старика горят, как угли.
– Сейчас у Балинта Тёрёка, – ответил Добо.
– Стало быть, ты приверженец Фердинанда? Что ж, добро пожаловать, сынок! – И Цецеи протянул руку Добо, успев окинуть быстрым взглядом и его жеребца и его саблю. – Из каких же ты, Добо?
– Из рускайских, отец.
– С Палоцаями состоишь в родстве?
– Да.
– Выходит, ты из Верхней Венгрии? Как же ты сюда попал? Каким ветром вас сюда занесло?
– Мы, отец, едем из Палоты.
– Из замка Морэ?[6]
– Теперь он уже не замок Морэ.
– А чей же?
– Ничей. Да и не замок это теперь, а просто груда камней.
– Вы разрушили его?
– До основания.
– Слава богу!.. Да ты, братец, зайди сюда, в холодок, на террасу… Эй, мать, встречай гостя! – И Цецеи снова кинул взгляд на Добо. – Разрушили, говоришь?
Маленькая полная женщина суетилась на террасе: вместе со служанкой ставила стол в тень. Тем временем другая служанка отпирала дверцу погреба.
– Пишта Добо – родич Палоцаев, – представил Цецеи гостя своей супруге. – А солдатам поставьте вина и закуски.
Добо вытащил из камзола красный носовой платок, утер лицо.
– Прежде чем присесть, отец, – сказал он, испытующе глядя в лицо Цецеи, – я обязан спросить, нет ли здесь Морэ. Я ведь его ищу.
– Здесь? Морэ? Да чтоб глаза мои не видели его, разве только когда он на виселице будет болтаться!
Добо продолжал вытирать лицо и шею:
– Стало быть, мы сбились со следу. А водицы у вас не найдется?
– Погоди, сейчас вино принесут.
– Я, отец, как пить захочу, всегда воду пью.
Добо взял большой пузатый жбан, поднес к губам, а утолив жажду, шумно вздохнул и сказал:
– Отец, а вы позволите передохнуть у вас до вечера?
– Какое там «до вечера»! Тоже выдумал! Я тебя несколько дней не отпущу!
– Благодарю вас, но сейчас не Масленица. Ночь я не спал, а вечером отправимся дальше. Однако кольчугу я бы скинул. Хотя она из дырок сшита, а все же жарко в ней в такую пору.
Пока Добо снимал в комнате доспехи, во дворе показался паломник.
– Да ты никак от монаха явился! – сказал Цецеи, глядя на него с удивлением, и глаза его снова загорелись, точно угли.
– От монаха. – Паломник улыбнулся. – А откуда вы изволите знать?
– По бороде твоей вижу: вся побелела от дорожной пыли.
– Верно.
– Потому и догадался, что ты издалека пришел.
– И то верно.
– А мне из дальних краев передать привет некому, кроме настоятеля Шайоладского братства нищенствующих монахов. Порази его стрела Господня, он мне родня.
– Да ведь он, ваша милость, давно уже не настоятель, а духовник короля.
– И это я знаю, чтоб он сгорел вместе со своим хозяином! Как тебя зовут?
– Имре Варшани.
– Сколько тебе лет?
– Тридцать.
– Ну, поглядим, какую ты весть принес!
Паломник сел на землю и принялся отпарывать подкладку сутаны.
– Ох, и жарища в ваших краях! – весело проговорил он. – А турок сколько! Ну точно мух…
– И этим мы обязаны монаху да твоему королю. Куда же ты к черту зашил письмо?
Варшани вытащил наконец письмо с маленькой красной печатью и протянул Цецеи…
– Накормите, напоите этого человека и предоставьте ему ночлег, – сказал Цецеи жене и, сломав печать, развернул письмо. – От него! – произнес он, заглянув в бумажку. – Его почерк. Четкий, буквы будто напечатаны, только мелкие очень. Мне все равно не прочесть. Пошлите-ка за попом.
Паломник примостился в тени орехового дерева.
– А весть шлет, наверно, хорошую, – сказал он добродушно, – потому что не понукал меня, торопиться не приказывал. Когда он посылает письмо с большой печатью, я всегда должен спешить. А это с маленькой печатью – стало быть, дело не государственное.
И как человек, выполнивший свой долг, он с удовольствием потянул разок из кувшина с вином, который поставили перед ним.
Хозяйка тоже взяла в руки письмо. Оглядела его с одной и с другой стороны, посмотрела на сломанную печать, потом обернулась к паломнику:
– А дядюшка Дёрдь[7] здоров?
Служанка принесла хлеб, сыр, и паломник тут начал разыскивать свой складной нож.
– Он, сударыня, никогда не болеет.
Пришел и священник, плечистый седобородый старик с львиной головой.
Паломник встал, хотел поцеловать ему руку, но священник попятился:
– Ты папист или новой веры?[8]
Старик горстью захватил под самым подбородком свою свисающую на грудь седую бороду.
– Я папист, – ответил паломник.
Тогда священник протянул ему руку.
Вошли в комнату. Священник остановился у окна и начал читать, переводя на венгерский написанное по-латыни письмо:
– «Милый зять…»
Голос священника звучал глухо, как у чревовещателя: согласные буквы он проглатывал, так что о них можно было только догадываться. Но люди, привыкшие к нему, понимали, что он говорит.
Священник продолжал:
– «…и милая моя Юлишка, пошли вам бог здоровья и безмятежной жизни. Дошло до меня, что в ваших краях бесчинствуют то Морэ, то турки и что остались у вас одни только горемычные крепостные. Все, кто мог, бежали в Верхнюю Венгрию или к немцам. А вы, мои возлюбленные, если живы еще и обретаетесь в Керестеше, спасайтесь тоже. Я говорил с его величеством, просил, чтобы он возместил вам убытки…»
– Не читай дальше! – вспыхнул Цецеи. – Собакам – собачьи подачки!
– Тише, дружок, – успокаивала жена. – Дёрдь умница, Дёрдь знает, что от Сапояи мы ничего не примем. Изволь прослушать письмо до конца.
Священник насупил лохматые брови и продолжал читать:
– «…Король, правда, не может вернуть вам Шашд, но возле Надьварада есть деревня…»
– Прекрати, Балинт, прекрати! – рассвирепев, Цецеи размахивал руками.
– Дальше он уже о другом пишет, – заметил священник. – Вот слушай: «Но если у тебя все еще велика ненависть к нему…»
– Да, велика, велика! – крикнул Цецеи, стукнув кулаком по столу. – Ни на этом, ни на том свете видеть его не желаю. А если на том свете повстречаемся, так тоже только с оружием в руках!
Поп вновь принялся читать:
– «…то здесь, в Буде, пустует мой домик. Сами мы скоро переселимся в Надьварад. В доме моем только внизу живет оружейник, что луки изготовляет, а три комнаты наверху стоят пустые…»
Цецеи встал.
– Не нужно мне! Ты, монах, купил этот дом на деньги Сапояи! Пусть рухнет твой дом, коли я переступлю его порог!
Священник пожал плечами:
– Откуда ты знаешь, что на деньги Сапояи? Может быть, в наследство получил…
Но Цецеи не стал и слушать. Сердито ковыляя, он вышел из комнаты и, стуча деревяшкой, прошелся по террасе.
Паломник закусывал у края террасы, в тени орехового дерева. Цецеи молодцевато остановился перед ним сердито сказал:
– Передай монаху, что кланяюсь ему. А письмо его будто и читать не читал.
– Так что ж, ответа не будет?
– Нет.
И старик проковылял дальше, к амбару. Расхаживая взад и вперед под солнцем, он размахивал палкой во все стороны, будто отгоняя невидимых собак, и сердило бубнил:
– Нет, брат, шалишь, голова у меня еще не деревянная!
Крестьяне усерднее принялись стричь овец, собаки отбежали подальше, и, казалось, даже дом на холме со страху соскользнул куда-то ниже.
Хозяйка вместе со священником стояла на террасе. Священник пожимал плечами:
– Допустим, домик не в наследство получил, а своим трудом добыл. Так все равно может подарить кому захочет. Вот он и дарит Петеру Цецеи. Теперь это будет дом Цецеи, и в нем сам король ему не указчик.
Из комнаты вышел Добо. Хозяйка представила его священнику и кликнула Вицу:
– Вицушка! Где ты, Вица?
– Она в саду играет, – ответила служанка.
Вернулся Цецеи и тут же напустился на священника:
– Ты, поп, рехнулся, видно! Чего доброго, не сегодня-завтра знаменосцем поступишь к Яношу!
– А ты на старости лет венгерцем зваться перестанешь! – рявкнул в ответ священник.
– А ты в палачи наймешься! – заорал Цецеи.
– А ты к немцам! – сердито крикнул поп.
– Палач!
– Немец!
– Живодер!
– Изменник родины!
Седовласые старцы кричали друг на друга так, что оба посинели от злости. Добо ждал только, когда придется их разнимать.
– Да не бранитесь вы, господь с вами! – проговорил он взволнованно. – Лучше уж с турками поругайтесь.
Цецеи махнул рукой и упал на стул.
– Не понимаешь ты этого, братец. Сапояи велел отрезать язык этому попу, а мне – руку. Ну, не дурак ли поп, коли обрубком своего языка Сапояи защищает!
– Будь он только моим врагом, – ответил притихший священник, – я давно бы ему простил. И все же я скажу: пусть лучше он правит венгерцами, нежели немец.
– Нет уж, лучше немец, нежели турок! – заорал Цецеи.
Добо перебил стариков, чтобы они не сцепились вновь:
– Хорошего мало и в том и в другом, это верно. Мы в Верхней Венгрии считаем так: подождем малость, может, немец выставит свои силы против турка. А кроме того, мы хотим убедиться, не продает ли Янош нашу отчизну туркам.
– Продал уже, братец, давно продал! – сказал Цецеи, махнув рукой.
– Не верю, – ответил Добо. – Ему нужна была корона, а не дружба с турками.
На столе появилось блюдо с цыплятами, жаренными в сухарях. Лица стариков смягчились. Все сели за стол.
– Эх, братец, когда-то и я был таким же молодым, как ты! – Цецеи покачал головой. – Сколько тебе лет?
– Тридцать один, – ответил Добо. – Да не сегодня-завтра и меня уж никто больше молодым не назовет.
– Покуда не женился – всегда молод. Но теперь самая пора тебе обзавестись семьей.
– Все некогда было, – сказал Добо улыбаясь. – Я, отец, с малых лет всё в сражениях да в сражениях.
– Так и надо. С тех пор как свет стоит, венгерец так живет. Ты, может, думаешь, я в танцах потерял обе ноги? Я, братец, начал вместе с Кинижи[9]! Меня король Матяш[10] по имени называл. Закончил же я вместе с Дожей, а он, поверь мне, был героем из героев.
Цецеи поднял в честь Добо полный до краев оловянный стакан:
– Да благословит Господь венгерцев, а тебя, братец, особенно. Пусть он пошлет тебе победу над врагом и жену красивую. А в шахматы играть умеешь?
– Нет, – ответил Добо, улыбнувшись такому нежданному повороту в мыслях Цецеи, и, одним духом осушив стакан крепкого красного вина, подумал: «Теперь понятно, почему старики так разошлись».
– Раз не играешь в шахматы, то хороший полководец из тебя не получится, – сказал Цецеи.
– Если б мы бились по-восточному – рать на рать, не получился бы. Но ведь мы-то бьемся по-венгерски – человек на человека. А этому шахматная доска не научит.
– Так, выходит, ты все же умеешь играть?
– Нет, я только знаю, как играют.
– Вот если научишься – и судить будешь по-иному. За час шахматной игры, братец, можно узнать все приемы настоящего боя.
– Может быть, вы с отцом Балинтом дома всегда в шахматы играете?
– Мы? Никогда! Мы и без шахмат ругаемся почем зря. А ведь и оперились вместе, и жили вместе, и сражались…
– …вместе и помрем, – закончил священник, кивая головой.
Старики дружелюбно переглянулись и чокнулись.
– Но ты, Балинт, согласись хоть с тем, что человек, выгнавший из логова лисицу Морэ, совершил доброе дело. А ведь это дело рук Фердинанда.
Цецеи провел рукой по усам.
– Положим, не только Фердинанда, – заметил Добо, – а обоих королей. Там были оба войска. Злодеяния Морэ уже всем не под силу стало терпеть. Под конец он даже могилы стал разрывать.
– А все-таки больше войска послал Фердинанд.
– Нет, скорее уж король Янош. Фердинанд только велел Балинту Тёрёку помочь Яношу и отрядил еще пятьдесят рудокопов.
– Чтоб стены рушить?
– Да… С нами и турки были…
– Конечно, под стягом Яноша?
– Да, черт бы побрал таких помощников! Больше грабят, чем помогают.
– Кто, свиньи акынджи?
– Ну да.
– И что ж, легко вы справились с замком?
– Не сказал бы, отец. Стены крепкие, стенобитных орудий не взяли с собой ни мы, ни войско Яноша. А много ли сделаешь фальконетами[11]!
– Я бывал там, – заговорил священник. – Это тебе не домик с оградой, а неприступная твердыня. Стало быть, замок они не сдали?
– Нет. Нам пришлось приставить к скале пятьдесят рудокопов. Ох, и работа же им досталась! Что говорить! Кирки высекали искры из камня, а железные балки едва-едва долбили его. Но в конце концов против стольких рук и камень не устоял.
– Взорвали?
– Сперва передали Морэ, что мина заложена. Он ответил, чтобы ждали до утра. Мы согласились. И что же натворила эта коварная лиса? Собрал весь народ и велел им крепко держаться. А он, мол, тем временем украдкой выберется из замка и приведет подмогу. «Ладно! – говорят ему. – Только какая порука, что ты вернешься?» – «Я оставлю здесь своих сыновей, – ответил негодяй, – все золото, серебро и скот. Какой вам еще залог надо?» Он спустился по веревке с крепостной стены – и был таков. Мы, конечно, ничего не заметили в кромешной тьме. Когда же солнце взошло – видим: белого флага на замке нет, парламентер не идет, ворота тоже никто не думает открывать… Мы и взорвали мины. Разве здесь не было слышно? Грохот стоял такой, что горы сотрясались. Стены рухнули, мы ворвались в замок. Солдаты наши до того рассвирепели, что поубивали всех людей Морэ…
– Детей тоже?
– Нет. Детей Морэ мы обнаружили в каменном подземелье. Двух славных черноволосых мальчуганов. Они теперь у короля Яноша.
– А сейчас вы ищете Морэ?
– Я завернул сюда с четырьмя молодцами – думал, нападем на его след. По дороге мы встретили полевого сторожа, у которого он ночевал в погребе. Сторож сказал, что Морэ направился сюда, к Печу.
Госпожа Цецеи обернулась.
– Магда, где Вицушка? – спросила она девушку, которая что-то скребла во дворе.
– Не знаю, – ответила служанка. – После обеда она играла в саду.
– Беги поищи ее!
– Это моя доченька, – улыбнулся Цецеи. – Господь на старости лет послал мне утешение. Вот посмотришь – настоящая маленькая фея Илона[12]!
– А сына у вас нет?
Цецеи, помрачнев, покачал головой:
– Был бы сын, так у меня даже рука выросла бы снова, словно у рака клешня.
Девочки нигде не оказалось. За жарким спором и чтением письма все позабыли о маленькой Вице. Служанкам было тоже не до нее – они нашли себе занятие во дворе. Там витязи подкручивали усы, девушки ходили, колыша юбками, и веселились так, будто витязи съехались к Цецеи на смотрины.
Уже всё обшарили вокруг дома.
– Вицушка!.. Вицушка!..
Облазили все кусты, обыскали все уголки в деревне, где обычно играли ребята. Куда же запропастилась тетка Като? Ведь ей было поручено смотреть за девочкой. Заснула, должно быть, старуха. Да видел ли кто-нибудь Вицушку? Никто не видел. После обеда она разговаривала у садовой калитки с каким-то мальчонкой. Кто ж там проходил? Не иначе, как Гергё. Он вел пасти дедушкиного коня. А где же Гергё? И его нет нигде. Наверно, пошел с конем в лес. Вот она, детская беспечность! Сколько раз говорили мальчишке, чтобы не заходил с конем дальше тутовника.
Обыскали весь лес вокруг деревни.
– Вицушка!.. Вицушка!..
Занялись поисками и Добо со своими солдатами. Заглянули за каждое деревце, каждый куст, осмотрели все заросли бурьяна вокруг деревни, все канавки, овражек – не задремала ли где-нибудь девочка.
– Вицушка!.. Вица!..
Плача и причитая, искала своего сына и матушка Гергё. Старуху Като нашли в лесу. Она уже давно искала, звала – даже горло надорвала, охрипла совсем.
Наконец перед вечером послышался радостный крик служанки:
– Нашлись!
– Ну, слава богу!
– Вон их одежда!
Но, увы, это была только одежда – беленькая сорочка, красные башмачки, желтая юбочка из тафты, рубашка Гергё, его штанишки и шляпа. Ребята, должно быть, купались – на мягком песке у самой речки отпечатались следы их ног. Один след – побольше, с растопыренными пальцами, – след ноги Гергё. И совсем маленький – след ножки Вицушки.
Видно, в речке утонули ребята.
3
– Меня зовут Маргит. Вот так и зовите: тетя Маргит, – сказала девушка, сидевшая на телеге. – Я вам сказки расскажу. Сказок я знаю пропасть. А вы сами-то откуда, родненькие мои?
– Из деревни, – печально ответил Гергё.
– Из деревни, – пролепетала и девочка.
– А из какой деревни?
– Вон из той.
– Как же называется ваша деревня?
– Называется?
– Да, как она называется?
– Называется? Не знаю, как называется.
У круглолицей Маргит были пухлые губы, всегда точно протянутые для поцелуя, а вокруг носа были рассыпаны веснушки. На шее она носила голубые стеклянные бусы. Турки увезли ее из одного хуторка Шомодьского комитата.
Слушая ответы детей, она только покачивала головой. Потом тайком нарвала лоскутков из наваленного кучей разного белья, навернула их на деревянную ложку и смастерила куклу.
– Это Вицушкина куколка. Платочек у нее желтый, юбочка красная. Мы будем ее одевать, укладывать спать, баюкать и танцевать с нею.
Медленно плелась невольничья повозка.
Рядом брели широкоплечий деревенский парень и молодой рябой цыган. Оба босые. Цыган был в залатанных синих штанах и синем доломане. Из внутреннего кармана доломана торчала грязная воронка деревянной дудки. По другую сторону повозки шли священник в черной сутане и лохматый большеголовый крестьянин. Крестьянину, должно быть, лет сорок. Священник помоложе. Это высокий человек с тонкими чертами лица, без усов, без бороды и даже без бровей. Лицо у него красное, как свекла, одни только глаза черные. Несколько дней назад турки поливали его кипятком, требуя, чтобы он отдал им сокровища своей церкви.
Но какие там были сокровища в его церквушке!
А теперь бедняги попали в рабство. На ногах у них цепи, руки скованы у кого спереди, у кого позади. Парень идет на одной цепи с цыганом, священник – с крестьянином. У парня под кандалами щиколотки обвернуты тряпками. Тряпки уже все в крови.
– Остановимся, – взывал он иногда с мольбой. – Я хоть кандалы поправлю.
Но янычары, болтавшие между собой по-турецки, не обращали на него внимания и в лучшем случае отвечали сердитым взглядом.
Гергё уставился на парня. Какие у него большие руки! А сколько пуговок на поддевке! Вот уж кто не боится! И не будь у него руки закручены за спину, все янычары, наверно, разбежались бы от него.
Парень и правда не боялся. Он поднял голову и заорал на сутулого турка, трусившего рядом с ним верхом:



