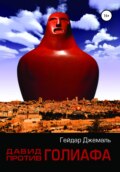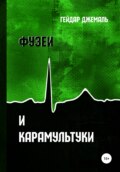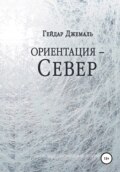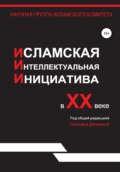Гейдар Джахидович Джемаль
Революция пророков
3. Знание о том, «что есть»
Вещественность и подлинность. – Способы отношения к «невоспринимаемому». – Последняя правда. – Спор об одном и том же
Мы обозначили круг, связанный с пониманием слова «традиция». А что же такое «реальность»? Сразу поставим вопрос: какое отношение реальность имеет к вневременному блоку, который открывает себя через целую систему социальных механизмов, структур и передач? Слово «реальность» происходит от латинского res («вещь»), это некая вещественность. Как говорили марксистские преподаватели: Вы постучите себя по столу, есть или нет?! Собственно говоря, в «Материализме и эмпириокритицизме» Владимир Ильич так и понимал реальность – как постукивание по столу. С другой стороны, мы привыкли в философской практике апеллировать к реальности как к чему-то более глубокому, сокровенному и масштабному, чем действительность. Насколько я помню, в одной из своих первых работ Владимир Соловьев даже доказывал, что в английском и французском языках нет адекватных слов, разграничивающих реальность и действительность, а есть такие слова только в русском и немецком языках (Realitat и Wirklichkiet), что, конечно, неверно. Такие слова, разграничивающие понятия реального и действительного, есть и во французском языке (realite и actualite), и, соответственно, в английском (reality и actuality). Действительность – это то, что мы привыкли воспринимать как то самое «постукивание». Это гудки автомобилей за окном, повестки из милиции, звонки по телефону, включенный телевизор, падающие самолеты. А реальность, несмотря на свое происхождение от латинского слова «вещь», каким-то образом переживается нами как глубокое, подлинное, фундаментальное, последнее. Видимо, это так потому, что человек склонен уподоблять твердость и неподатливость окружающего корпорального мира тому подлинному, что на самом деле скрывается за этой вещественностью. Реальность – это последняя подлинность, это последняя аутентичность, это то, что Кант называл «вещь в себе», это ноумен. Реальность не дана нам непосредственно в наших органах чувств. Потому что то, что нам дано в органах чувств, это то, что на нас действует, то, с чем мы соприкасаемся, та стена, в которую мы бьемся лбом. Это действительность. А реальность, подлинная реальность – это то, над чем ломали интеллектуальные копья многие мыслители. И все они приходили к одному – реальность умопостижима только в виде концепта, ее нельзя пережить, ощутить, о ней можно думать, говорить. Иначе она просто ускользает. Мы можем принять за факт, что за гранью видимого, которое на нас давит, есть то невидимое, которое тем или иным образом находится с этим видимым в связи. Тогда получается, что есть прямая связь между Традицией (как чем-то невидимым и глобальным, что проявляет себя в формах видимого, т.е. в социуме) и реальностью (тоже ноумен, тоже невидимый).
Может быть, это одно и то же? Может быть, ноумен и источник Традиции это и есть одно и то же? Это классический путь решения вопроса. Т.е. действительно есть последняя правда, она внечеловеческая, она не воспринимается органами чувств, она открывает себя косвенным образом через некие внешние знаки, и, одновременно, она открывает себя через проявления общества, через предания, через некие символы, в которых запечатлевается отношение человека к этой реальности. Тут мы подошли к наиболее значимому вопросу. Традиция – это различные способы отношения человека к ноумену, к тому непостижимому, данному вне чувств, которое является смыслом и мотивом всего. Обычный человек, который занят потоком обыденной жизни, может знать (ему сказали), что есть некая бездонная последняя правда, которую ты не воспринимаешь. Допустим, что он человек гибкий – он принял, что есть такая правда. Но ему до этой правды нет никакого дела. От рождения до смерти он занят покупкой хлеба, воспитанием детей, хождением на работу. Внезапно наступает конец, он падает в яму, над ним быстро произносят несколько слов, относящихся к фольклору – и конец.. Он имел отношение к реальности в том смысле, что реальность не имела отношения к нему. Это очень тонкое отношение, это отношение обычно называется профанизмом, т.е. пребыванием вне Традиции. Традиция же – активное отношение человека к этой самой скрытой истине, скрытой подлинности.
Но тут оказывается, что это отношение к ноуменальному может быть самым разным. Мы исходим из монистического видения некой последней правды. Нас интересует краеугольный камень, который вложен в вершину купола Традиции, на котором этот купол и держится. По определению, мы хотим единственно последнего монизма. Но отношений к этому, ракурсов взгляда на этот последний камень оказывается много. Как в приведенном выше образе с собакой в кинозале, в зале сидит собака, но сидят, допустим, в первом ряду простые ребята, которые зашли с семечками, а есть там серьезные люди, не чуждые интересам киноискусства, слышавшие про этого режиссера, которые хотят понять, что же он им скажет, а есть там уже и кинокритик, где-то в заднем ряду сидит и мысленно прикидывает рецензию, которую он напишет и т.д., и т.д. То есть возникает целый спектр реакций на картину. Традиция – это широкое поле возможностей активного вступления во взаимоотношение с истиной и целый спектр соответствующих реакций. Показанный фильм может быть предметом жесточайших конфликтов и споров, интерпретаций. Один и тот же фильм может привести людей к тому, что они станут непримиримыми врагами. Они могут даже убить друг друга, несмотря на то, что спор идет об одном и том же фильме. Таким образом, оказывается, что Традиция – это прямое взаимодействие последней скрытой истины с человеком, как неким плещущим морем, некой жидкой субстанциональной потенцией реагировать по-разному.
4. Смерть как отправная точка
Слово – «двуногое без перьев». – Ужасная сила отрицания. – «Ноумен» как всепожирающий огонь внутри вещей. – Каста созерцателей и союз посланников. – Кто мы сами в «кинозале жизни»?
Человек есть субстанция, некая мякоть, некая плещущаяся грязь, не в смысле грязи как отброса, а в смысле той первозданной грязи, из которой творились первые формы. На эту субстанцию воздействует некий жесткий невидимый луч, он поднимает волны, он вздыбливает холмы, рождает воронки. И процесс взвихрения субстанции, в ответ на действие этого луча, образует то, что называется реальной историей. А наиболее острые, наиболее глубинные, значимые парадигмы этой реальной истории образуют священную историю, в формулах которой мы опознаем тайный смысл времени. Человек в принципе определяется в европейских языках как «смертный». Смертный, morte – синоним человека. Когда говорят morte, сразу ясно, что речь идет о человеке, а не о собаке, хотя собака тоже умирает. Человек интуитивно знает, что всем живым созданиям суждено уничтожение, и только для него главным определяющим его существо фактором, определяющим его стержнем является смерть. Сказать «двуногое без перьев» – ну вот, петуха ощипали, и будет двуногое без перьев. А сказать «смертный» – никто не принесет ни петуха, ни воробья, ни крысы, никому не захочется шутить. Всякий сразу поймет, что речь идет о нем и о ему подобном. Смертный – это характеристика юдоли (библейское понятие), юдоли человеческой, человеческого состояния. Это обозначение того, о чем говорится в Евангелии – сегодня как трава растете, а завтра в печь. Человек видит, что его окружает непрерывное становление, то, что было вчера, сегодня исчезает, а завтра не будет. То, что он видел в своем детстве, привычные лабиринты улиц, привычные дома, то, с чем сопряжено его первое впечатление юности, – на глазах исчезает, рассыпается, перестраивается. А внуки уже не видят того, что только появилось в его старости. Сквозь все бытие идет черный поток уничтожения. Этот черный поток уничтожения, пожалуй, главный и основной знак невидимой реальности, того ноумена, который стоит за вещами. Он открывает себя не в том, что он встал перед нами как груша, или как банан, или как магнитофон, он, этот ноумен, открывает себя в том, что он уничтожает грушу, банан, магнитофон. Все, что есть, уничтожается. И это единственное обозначение ноумена. Значит, ноумен негативен по отношению к сущему, негативен по отношению к человеку. Ноумен – это то, что губит, это, как представляли себе традиционные индуисты, богиня Кали, увешанная черепами, некая бездна, в которой все исчезает. Эта бездна действует вокруг нас, она пронизывает вещи. Мы можем себе представить, что весь мир – это некое горящее полено. Огонь невидим, но полено на наших глазах чернеет и съеживается. Этот невидимый огонь есть прямое присутствие ноумена.
Что такое Традиция? Это непосредственная попытка «подружиться» с этим пламенем, включить это пламя в свой состав, сделать его своей собственной кровью. Интересно, что в XX веке такую героическую попытку предприняли кабинетные интеллектуалы, чья жизнь была подвигом среди книг, рукописей, письменных столов и кресел. Странный аспект очень своеобразного современного героизма.
Итак, традиция, реальность, смерть – это очень сопряженные понятия. А попытка включить это пламя в свою кровь – что это такое? Это солнечная воля, это воля к власти, которая является неотъемлемой чертой подлинной жажды истинного знания. Но она является и героической, и трагической, и связанной с идеей собственной смерти, принятия этой смерти. И вместе с тем это есть единственный стержень, которым можно определить подлинную «пассионарность».
Тут мы оказываемся перед странным феноменом. Когда мы встречаемся с людьми, представляющими Традицию в нашем мире, будь это священники, или муллы, или шаманы, то мы сталкиваемся с полным отсутствием пассионарности в этих людях. Мы видим, что в них присутствует скорее лунная созерцательность. Очевидно, Традиция действительно имеет несколько аспектов. В кинозале сидят и критики, и банальные обыватели, и неизбежно те же собаки. Традиция глубоко неоднозначна. Существует институт жрецов, который из тысячелетия в тысячелетие поддерживает и вырабатывает этот способ прямого созерцания реальности. Они, брамины, великие посвященные, просто созерцают реальность в чистом виде. Поскольку они не могут передать это свое видение, они говорят параболами, баснями, притчами, символами, рисунками, иероглифами. Дальше идет уже некое «второе обслуживание» этих символов, иероглифов – возникает уже традиционное искусство, которое работает с третьим, четвертым производным от этих символов.
При этом непонятно одно. Зачем тогда приходили в этот мир пророки? Зачем приходил Иисус Христос? Зачем приходил Мухаммед? Они ведь не были этими жрецами. Они ничего не созерцали, они получали откровение. Откуда? Из того ли ноумена, который сквозит как невидимое пламя сквозь полено мира? Или из другого источника? Где краеугольный камень жизни и смерти – та ли тайна, на которой зиждется все, или есть еще какая-то контртайна, которая противостоит этой первой?
Задачей этого курса будет попытка ответить и на этот вопрос, в частности, и попытка просто решить, не является ли дуализм последней тайной единства.Я хочу познакомить своих слушателей с тем, о чем будет идти разговор, хочу обозначить тему, поле этого разговора. В первую очередь нужно объяснить, что же стоит за словами «традиция и реальность». Наша тема – это наше отношение к подлинному, а не отношение кого-то, кто жил в другой стране и уже давно умер, к тому, что он считает подлинным. Наше отношение к подлинному для того, чтобы быть занимательным, может иногда соскальзывать на разработку каких-то неизвестных нам имен. Но не в этих именах дело.
Наша главная задача – определить, кто мы, собаки или кинокритики в зале жизни. Наша подлинная задача – определить, что для нас реальность, что для нас традиция, и, если мы кинокритики, определить, «с кем мы, мастера культуры».
Лекция № 2. Глобальная перцепция и последняя реальность
1. Проблема «наивного сознания»
Дуализм знания и предмета знания. – Зыбкость абсолютного идеализма. – Уклончивость традиционализма. – Определить «внечеловеческое», начав с человека
Когда уже после вводной лекции задаешься вопросом, что такое «традиция» и что такое «реальность», возникает, казалось бы, странный вопрос: традиция – это знание или бытие? Т.е. это то, что мы знаем, то, что мы несем в своем представлении в качестве информации, несем в своем индивидуальном состоянии духа, или это некий блок существования, некий невидимый кирпич, который присутствует как наличная данность? Если мы возьмем слово «традиция» в его наиболее бытовом, деформированном определении, то традицией окажется то, что передается (обычаи, фольклор).
Наивное сознание склонно убегать от вопроса, есть ли различие между бытием и знанием. Наивное первичное сознание не любит таких формулировок. Оно как бы пожимает плечами. Ненаивное сознание, прошедшее искус различными вопросами и проблемами, отвечает очень хитрым образом: знание и бытие вещи тождественные, две стороны одного и того же. Разве знания не существует? Разве знание – это не блок чего-то существующего? И тут же хитрым образом: знание бывает о чем-то существующем.
Нас не может удовлетворить такой ответ, что знание и существование – это одно и то же, несмотря на внешний лоск откровенного идеализма, даже некой идеалистической романтики, апеллирующей к философскому, духовному инстинкту. Пусть это привлекательно, красиво звучит, но есть что-то внутри нашего неугомонного метафизического сердца, что говорит: «нет, этот ответ слишком прост». В своей грандиозной ловкости это – подмена. Знание и бытие различаются, это не одно и то же. И последние вопросы духа, последний ответ на самые тайные вызовы содержится именно в понимании разницы, может быть, абсолютной разницы между бытием и знанием. Не то чтобы это были две стороны одной реальности. Это две разных, взаимоисключающих реальности, которые тем не менее парадоксальным образом связаны.
Если мы уже приняли этот вызов, если мы почуяли, что бытие и знание – это разные вещи, то возникает вопрос: относится ли Традиция к знанию или она относится к бытию. Ни один традиционалист не «опустился», не снизошел до окончательного, конкретного ответа на этот вопрос. Ни Генон, ни его верные или неверные ученики не стали разрабатывать эту тему. А она очень важна. Я непосредственно знаю и по собственному опыту, и по опыту других, что люди, которые входили в Традицию, интересовались Традицией, задавались этим вопросом. Традиция – это нечеловеческий фактор, это нечеловеческое измерение, это нечто за пределами окружающей нас человеческой непосредственности. Что это такое? Это то, что мы будем знать, или это некая реальность типа здания, с которым мы соприкоснемся и потрогаем его, когда туда войдем, или облака? И обычно на это отвечают уклончиво: традиция – это некая данность, которая есть всегда и которая может быть доступна определенным путем с помощью определенных средств.
Попробуем сейчас в этой беседе подойти к началу ответа на данный вопрос. Занимающийся Традицией человек стоит перед вызовом гносеологического порядка. Ему нужно определить, понять, откуда и как получается то, с чем он имеет дело. Возьмем самого обычного человека, лишим его определенных свойств, представим себе, что это дикарь из Новой Гвинеи или крестьянин из альпийской деревни. Можно с любого человека содрать его атрибутику, и получится некое существо, сведенное к двум-трем основным декартовским параметрам. Он – это точка, и – протяженность вокруг него. И мы увидим, что в каждом человеке, безотносительно его уровня и статуса, живет некое напряжение вопроса.
2. Человек как орудие восприятия
Попытки выяснить границу восприятия: младенец, животное, сумасшедший. – Хрупкость «зеркала». – Восприятие и бессмертие
Человек – это вообще черная дыра вопросительности, черная дыра некой проблемы. Это не значит, что он задается вопросом, это не значит, что он думает, в чем заключается смысл жизни, что такое «я», зачем я пришел, куда иду. На самом бессознательном уровне человек есть носитель вопроса. Что это за вопрос? Это в принципе некое изначальное ощущение того, что он как перцептор, как воспринимающий является неизмеримо большим, более объемным, чем то, что отражается в зеркале этой перцепции. Иными словами, любой человек чувствует, что он – некая кастрюля, в которую налили слишком мало воды, что эта кастрюля бездонна, и сколько бы туда воды ни налили, объем ее всегда будет превосходить содержимое.
Человек ощущает себя изначально как чистое восприятие. Представим себе младенца в невинном состоянии, невинного жирного младенца, бегающего среди васильков по лужайке, гоняющегося за бабочкой. Такой классический райский образ предстает в воспоминании каждого человека, мечтающего о своем детстве, ностальгирующего и т.д. Что представляет собой этот младенец? Он представляет собой чистое восприятие, конкретную и всеохватывающую встречу между «я» и «не-я», ничем не замутненную, в которой эта встреча есть большее, чем встречающиеся начала. Это чистое восприятие переживается как нечто большее, чем бессознательно присутствующие в этом восприятии «он» как бегающая физическая единица и лужайка с цветами и бабочками, которая им воспринимается. Восприятие больше и этой лужайки, и его, бегающего по лужайке.
Вы можете сказать, что и собака тоже воспринимает. Человек отличается от собаки тем, что в нем восприятие обособлено и отчуждено, как некая самодовлеющая стихия, потому что в любом живом существе, кроме человека, восприятие резко, конкретно, остро функционально. В каждый конкретный момент оно совпадает с единицей восприятия. Появляется у собаки хозяин – он полностью заполняет ее восприятие. Появляется угроза – она полностью заполняет восприятие. Человек же в каждый данный момент чувствует, что как бы ни нахлынула на его органы чувств, на его опыт, на его эмоциональную способность внешняя волна мира, стихия «не-я», среда – восприятие все равно больше, оно не заполняется этим. Не он сам, человек, но его восприятие больше всего встречного. Этот младенец чувствует только чистую глобальность восприятия, и поэтому он ощущает вневременье, то, что расшифровывается как счастье, пребывание вместе со временем.
И вот этот младенец падает. Упал и разорвал себе кожу на коленке и дико завыл. Произошло резкое раздвоение его внутреннего состояния.. Образовалась некая двойственность. Вдруг оказывается, что у этого огромного незамутненного восприятия есть носитель. Оказывается, есть восприятие, а есть воспринимающий. И воспринимающий очень хрупок, исчезающе мал. Вот первая травма райского состояния. Оказывается, восприятие ничем не замутнено, бездонно и является как огромное зеркало, которое никак нельзя заполнить даже небом с его облаками, но это зеркало можно уронить, и оно разобьется. Восприятие не разобьется, а воспринимающий разобьется. Возникает первая двойственность. Человек обнаруживает, что в нем есть два начала: смертное, хрупкое, исчезающее – это он сам как некий физический предмет, как опора второго начала, и это самое второе начало, функция, которая бессмертна, которая не зависит от превратностей. Каждый из нас, будучи человеком, уже автоматически является носителем этих данностей. Человек не может представить себе, чтобы восприятия не было. Это заложено в самые недра его психобиосущества. Оказывается, что есть это чистое восприятие, которого не может не быть, эта перманентная фонтанирующая встреча, бесконечная встреча «я» и «не-я». И есть та конкретная индивидуальная опора – конкретный Петя, Вася, – которая может быть исключена из осуществления этой функции. Восприятие останется, Пети не будет.
Забегая далеко вперед, я должен сказать, что энергия чистого восприятия тесно связана с этой двойственностью. И, пытаясь ответить на вопрос, почему эта вопросительность есть специфика человеческого существа и почему ее нет в любом другом живом существе, я могу сказать, что эта черная дыра восприятия, которая является источником райского самоощущения, но также травмы и беспокойства, принадлежит человеку как служебному существу, как инструменту. Человек не самодостаточен, он существует как механизм Провидения, Провидение использует человека для каких-то своих целей. Человек – это гносеологическое ружье, оно заряжено некой давящей его способностью, которая не соответствует его задачам и целям как самостоятельной и самозаконной системы. Любое живое существо, гораздо меньшее, чем человек по параметрам своих проявлений, возможностей, автономно. Заяц автономен. Заяц существует только как некий живой механизм для самого себя. Если в человеке нарушается вопросительность, если нарушается давление этой внутренней черной дыры, в нем иссякает воля к жизни, он либо начинает совершать неадекватные, асоциальные действия, либо кончает с собой. В любом случае, он начинает идти вразнос, срабатывает механизм автодеструкции. Животное сходит с ума только в исключительных случаях, когда среда начинает его мучить и терзать до такой степени, что у него нарушаются функциональные параметры узкого замкнутого восприятия.
Это нехарактерно для животного. Для человека это настолько характерно, что существуют целые психиатрические школы, которые рассматривают человека как сумасшедшего в принципе и просто различают клиническую и социальную стадию этого сумасшествия. Что хотят сказать эти психиатры? Что человек существует не ради себя. Сказать, что человек сумасшедший – это попросту сказать, что человек активно испытывает свою предназначенность для чего-то, что не есть он сам, его непосредственная жизнь, его непосредственные задачи. Вульгарно говоря, когда человек считает себя, например, Наполеоном или кем-то другим, кем он на самом деле не является, он тем самым в грубой инфантильной форме декларирует, что он есть механизм Провидения. Когда он говорит, что «я – это не я, а кто-то другой», он тем самым хочет сказать, что он существует как механизм в чьих-то неведомых страшных руках. И это, оказывается, связано с тем, что восприятие человека ощущает самое себя.