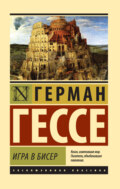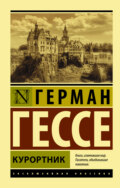Герман Гессе
Петер Каменцинд. Под колесом. Гертруда. Росхальде
Глава 5
Далее следует пора моей жизни, которая на первый взгляд кажется более подвижной и пестрой, чем предыдущая, и вполне могла бы послужить канвой для модного романа. Я должен был бы сейчас рассказать, как стал редактором одной германской газеты; как позволял своему перу и своему злому языку чересчур много свободы и постоянно подвергался за это придиркам и поучениям; как затем снискал себе славу пропойцы и в конце концов, после жестоких распрей, расстался с должностью и отправлен был в качестве корреспондента в Париж; как беспутствовал в этом проклятом вертепе, дерзко излишествовал во всем и ни о чем не заботился в хмельном угаре своей цыганской жизни.
То, что я опустил этот короткий период моей жизни, оставив с носом охотников до сальностей, которые, возможно, найдутся среди моих читателей, – вовсе не трусость. Я сознаюсь, что предавался одному заблуждению за другим и что едва ли найдется такая грязь, которой бы я не повидал и в которую бы меня не угораздило попасть самого. Моя симпатия к романтике богемы исчезла с тех пор без следа, и я думаю, вы позволите мне ограничиться лишь тем чистым и добрым, что все же было и в моей жизни, и списать в расход то время как потерянное и невозвратимое[15].
Однажды вечером я сидел один в Bois[16] и размышлял, оставить ли мне только Париж или лучше заодно и мою опостылевшую жизнь.
Впервые за много месяцев пройдя в мыслях весь свой жизненный путь, я убедился, что потерял бы не так уж и много.
Но тут в памяти моей внезапно вспыхнул ярким отблеском один далекий и давно позабытый день – раннее летнее утро дома, в горах, когда я стоял на коленях у постели матери и смотрел, как она принимает смерть.
Мне стало страшно и вместе с тем стыдно оттого, что я так долго не вспоминал это утро. Глупых мыслей о самоубийстве как не бывало. Ибо я думаю, что ни один серьезный, еще не окончательно сокрушенный ударами судьбы человек не способен наложить на себя руки, если ему когда-либо довелось видеть, как медленно угасает чья-то светлая, праведная жизнь. Я вновь увидел, как умирает мать. Я вновь увидел на лице ее беззвучную, серьезную, облагораживающую работу смерти. Смерть, суровая и могущественная, была в то же время подобна ласковой матери, возвращающей заблудшее чадо свое под родительский кров.
Я вновь вспомнил вдруг, что смерть – наша умная и добрая сестра, которая знает заветный час и которой мы можем довериться в своем ожидании. Я начал также понимать, что боль, разочарования и тоска посылаются нам не для того, чтобы сломить наш дух, лишить нас ценности и достоинства, а для того, чтобы преобразить нас и приблизить нашу зрелость.
Восемь дней спустя я отправил свои ящики в Базель, а сам пустился в дорогу пешком, наметив себе добрый кусок южной Франции. Я шагал по этой прекрасной земле и чувствовал день за днем, как злосчастная парижская жизнь, воспоминания о которой преследовали меня словно зловоние, бледнеет и обращается в туман. Я принял участие в заседании одного Cour d’amour[17]. Я ночевал в замках, на мельницах, в сараях, пил со смуглыми, словоохотливыми парнями их теплое, солнечное вино.
Оборванный, тощий, загорелый и помолодевший душою, прибыл я через два месяца в Базель. Это было мое первое большое странствие, первое из множества. Меж Локарно и Вероной, меж Бригом и Базелем, меж Флоренцией и Перуджей немного найдется мест, которые я не прошел бы дважды или трижды в своих запыленных сапогах, в погоне за мечтами, из которых еще ни одной не суждено было исполниться.
В Базеле я снял себе комнатенку в предместье, распаковал свое имущество и принялся за работу. Я был рад возможности работать в тихом городке, где меня не знала ни одна живая душа. У меня сохранились отношения с несколькими газетами и журналами, и теперь девиз мой был: жить и работать. Первые недели прошли благополучно и спокойно, затем ко мне постепенно вернулась прежняя грусть и не оставляла меня целыми днями, неделями и даже во время работы. Тому, кто не прочувствовал на себе власть тоски, не понять этого. Как мне описать это? Меня одолевало чувство жуткого одиночества. Между мною и людьми и жизнью города, площадей, домов и улиц зияла непреодолимая пропасть. Случится ли в городе несчастье, пестреют ли газеты тревожными заголовками – ко мне это не имело никакого отношения. Праздничные шествия чередовались с похоронными процессиями; шумели рынки, давались концерты – зачем? для чего? Я бросался прочь из города, бродил по лесам, по холмам и дорогам, и вокруг меня в безропотной скорби молчали луга, деревья, поля, смотрели на меня в немой мольбе и словно порывались что-то сказать, побежать мне навстречу, поприветствовать меня. Безмолвные и недвижные, они ничего не могли мне сказать, и я понимал их муки и сострадал им, ибо не мог принести им избавления.
Я отправился к доктору, вручил ему пространное описание своих мук, а также поведал ему о них на словах. Он слушал, читал, расспрашивал и осматривал меня.
– Здоровью вашему можно лишь позавидовать, – объявил он наконец. – Организм ваш в полном порядке. Постарайтесь развлечь себя чтением или музыкой.
– По роду своей деятельности я ежедневно прочитываю массу новых вещей.
– Во всяком случае вам следовало бы больше времени проводить на свежем воздухе и не забывать о движении.
– Я каждый день гуляю от трех до четырех часов, а во время отпуска – по меньшей мере в два раза дольше.
– Тогда вам необходимо заставить себя бывать на людях. Вы подвергаете себя опасности стать мизантропом.
– Разве это так уж важно?
– Это очень важно. Чем меньше ваша потребность в общении, тем сильнее вы должны принуждать себя бывать в обществе. Состояние ваше – пока еще не болезнь и не вызывает у меня серьезных опасений. Однако если вы не прекратите пассивно праздничать, то в конце концов в один прекрасный день можете потерять душевное равновесие.
Доктор оказался человеком понятливым и доброжелательным. Ему стало жаль меня. Он рекомендовал меня одному ученому, в доме которого постоянно собиралось широкое общество и царила оживленная духовная и литературная жизнь. Я отправился туда. Мое имя там было известно; встретили меня любезно, почти сердечно, и вскоре я стал в этом доме частым гостем.
Однажды я явился туда холодным осенним вечером. Я застал там одного молодого историка и очень стройную темноволосую девушку. Больше гостей не было. Девушка занималась приготовлением чая, много говорила и была язвительно-иронична по отношению к историку. Потом она немного поиграла на фортепьяно, после чего сообщила мне, что хотя и читала мои сатиры, но не одобряет их. Она была, как мне показалось, отнюдь не глупа – пожалуй, даже чересчур неглупа, – и я вскоре ушел.
Тем временем обо мне прошел слух, будто бы я завсегдатай трактиров и, в сущности, отпетый пропойца, скрывающий свой порок. Меня это почти не удивило, ибо самым пышным цветом сплетня эта расцвела именно в образованных кругах, среди представителей обоих полов. Моим знакомствам это унизительное открытие не только не повредило, но даже сделало мою фигуру гораздо более привлекательной, так как в моду как раз вошло воздержание от спиртных напитков; дамы, равно как и господа, почти все давно были членами правления разных обществ трезвости и радовались каждому грешнику, попадавшему в их руки. Вскоре последовал первый вежливый натиск. Мне старательно разъясняли непристойность бражничества, говорили о проклятии алкоголизма и тому подобном с медицинской, этической и социальной точек зрения, и наконец меня пригласили принять участие в торжественном заседании одного из обществ. Удивление мое было безмерным, ибо до этого я не имел ни малейшего представления о подобных обществах и начинаниях. Заседание – с музыкой и некоторым религиозным налетом – показалось мне до неприличия нелепым, и я не стал скрывать своего впечатления. С того дня мне беспрестанно, неделями досаждали навязчивой любезностью; это в конце концов до чрезвычайности наскучило мне, и однажды вечером, когда благодетели мои вновь затянули свою песню и глаза их загорелись надеждой на мое скорое обращение, я, отчаявшись, энергично потребовал, чтобы меня наконец оставили в покое и избавили от этой болтовни. Темноволосая девушка тоже была на вечере. Она внимательно выслушала мои слова и воскликнула с совершенно искренним одобрением:
– Браво!
Я же был слишком раздосадован, чтобы обращать на это внимание.
Зато с еще большим удовольствием я стал свидетелем одного маленького курьезного злоключения, случившегося во время очередного широкого празднества воздержников. Общество трезвости в полном составе заседало и трапезничало вместе с бесчисленными гостями в своих родных стенах; звучали речи, заключались дружеские союзы, исполнялись хоровые произведения, превозносились до небес успехи благого дела. Одному рядовому члену общества, исполнявшему обязанности знаменосца, наскучили безалкогольные речи, и он потихоньку улизнул в ближайший трактир; когда же началось празднично-торжественное шествие через весь город с лозунгами и плакатами, злорадствующие грешники от всей души насладились восхитительным зрелищем: во главе радостно-ликующей процессии красовался пьяный, чрезвычайно довольный знаменосец, а знамя голубого креста в его руках напоминало надломленную бурей корабельную мачту, готовую в любую минуту рухнуть на палубу.
Пьяный знаменосец был удален; не удален был, однако, животрепещущий клубок противоборствующих тщеславий, мелкой зависти и интриг, возникший между отдельными конкурирующими обществами и комиссиями и проросший яркими, мясистыми цветами. Движение раскололось. Несколько спесивцев вознамерились присвоить всю славу себе и яростно чернили всякого не от их имени обращенного пропойцу; благородством и самоотверженностью истинных борцов за трезвость, в которых не было недостатка, злоупотребляли все кому не лень, и вскоре люди, стоявшие поближе к этому движению, смогли воочию убедиться, что и здесь под корой безупречно соблюдаемого этикета давно уже завелись и расплодились зловонные черви людских слабостей и пороков. Комедия эта доходила до меня по частям, через третьи руки, наполняя мое сердце тайной радостью, и частенько, возвращаясь домой с ночных попоек, я думал: «Вот видите, мы, дикари, все же лучше вас».
Я усердно учился и мыслил в своей маленькой, высоко и гордо вознесшейся над Рейном комнатушке. Мне было невыразимо горько оттого, что жизнь стекала с меня мгновенно испаряющимися каплями росы, что ни один бурный поток не мог подхватить и унести меня с собою и ни одна пылкая страсть или глубокая причастность к чему-либо не могли разгорячить мою кровь и вырвать меня из плена тяжелого сна наяву. Правда, кроме каждодневного, насущного труда я был занят подготовкой к работе над произведением, в котором отразилась бы жизнь первых миноритов, однако это было не творчество, а лишь скромное, непрерывное собирание материала и не могло утолить мою тоску. Я стал, вспоминая Цюрих, Берлин и Париж, размышлять над характерными желаниями, страстями и идеалами своих современников. Один трудился над тем, чтобы, отменив прежнюю мебель, прежние обои и платья, приучить человека к более свободным и прекрасным формам. Другой проповедовал геккелевский монизм в популярных статьях и докладах. Третий избрал своей целью установление вечного мира на земле. А кто-то боролся за интересы обездоленных низших сословий или был занят сбором средств и голосов в пользу создания театров и музеев для народа. Здесь же, в Базеле, боролись за трезвость.
Во всех этих устремлениях была жизнь, чувствовались порыв и движение, однако ни одно из них не было для меня важным и необходимым, и, если бы все те цели были сегодня достигнуты, это ничуть не коснулось бы меня и моей жизни. В отчаянии откидывался я на спинку кресла, отодвинув от себя книги и записи, и вновь думал, думал. Потом я слушал, как катит под окнами свои воды старый Рейн и гудит ветер, и растроганно внимал голосу великой, всюду подстерегающей скорби и тоски. Я смотрел на бледные ночные облака, несущиеся по небу, словно стаи испуганных птиц, слушал гул Рейна и думал о смерти матери, о святом Франциске, о родине, затерянной среди снежных вершин, и об утонувшем Рихарде. Я видел себя карабкающимся по отвесной скале за альпийскими розами, предназначенными для Рози Гиртаннер, я видел себя в Цюрихе, возбужденного книгами, музыкой и разговорами, видел, как плыву на лодке по ночному озеру с Альетти, как предаюсь отчаянию после смерти Рихарда, как путешествую и возвращаюсь обратно, исцеляюсь и вновь впадаю в страшный недуг. Зачем? Для чего? О Господи, неужели же все это лишь игра, случай, нарисованная картина? Разве я не боролся, не мучился, вожделея духа, дружбы, красоты, истины и любви? Разве не дымится во мне до сих пор горячий источник тоски и любви? И все это никому не нужно, все зря, все мне на муку!
При мысли об этом я окончательно созревал для кабака. Задув лампу, я на ощупь спускался по крутой старой винтовой лестнице и спешил туда, где пили фельтлинское или ваадтлендское. Там меня встречали уважительно, как почетного гостя, я же, по обыкновению, своенравничал, а иногда и безбожно грубил. Я читал «Симплициссимус»[18], который всегда меня злил, пил свое вино и ждал, когда оно меня утешит. И сладкое божество прикасалось ко мне своею по-женски мягкой рукой, наполняло члены приятной усталостью и уводило заблудшую душу мою в страну прекрасных грез.
Подчас я и сам удивлялся тому, что был с людьми так несносен и находил удовольствие в том, чтобы рычать на них. Кельнерши в наиболее посещаемых мною трактирах боялись и проклинали меня как отпетого грубияна и ворчуна, который всегда чем-то недоволен. Если мне случалось вступить в беседу с другими посетителями, я был неизменно груб и язвителен; впрочем, и люди эти не заслуживали другого тона. И все же среди них было несколько гуляк-завсегдатаев, уже стареющих и неисправимых грешников, с которыми я скоротал не один вечер и нашел нечто вроде общего языка. Особенно интересен оказался один пожилой мужлан, художник-дизайнер по профессии, женоненавистник, похабник и испытанный бражник-виртуоз. Всякий раз, когда я заставал его одного в каком-нибудь погребке, дело принимало почти драматический оборот. Вначале мы болтали, острили, между делом, как бы мимоходом, приговаривая бутылочку красного, затем вино постепенно выступало на первый план, а разговор затухал, и, молча сидя друг против друга, мы попыхивали своими бриссаго[19] и осушали бутылку за бутылкой. При этом мы не уступали друг другу в количестве выпитого вина: каждый заказывал свою очередную бутылку одновременно с противником, внимательно следя за ним с уважением и тайным злорадством. Однажды поздней осенью, в пору молодого вина, мы вместе совершили рейд по утопающим в виноградниках маркграфским деревушкам, и в Кирхене, в трактире «Олень» старик поведал мне историю своей жизни. Мне думается, это была интересная и необычная история, но, к сожалению, я ее совершенно позабыл. В памяти моей осталось лишь его описание одной попойки, уже в зрелом возрасте. Это было на каком-то деревенском празднике.
Оказавшись за столом для почетных гостей, он сумел подвигнуть священника, равно как и сельского старосту, к преждевременным и чересчур обильным возлияниям. Священнику же предстояло еще держать речь. Когда его с трудом водрузили на подиум, он стал произносить немыслимые вещи и был немедленно удален, после чего его попытался заменить староста. Тот принялся неистово импровизировать, но из-за резких движений ему вдруг сделалось дурно, и речь свою он закончил весьма необычным и неблагородным образом.
Позже я бы охотно еще раз послушал эту и многие другие его истории. Но вскоре на празднике стрелков мы безнадежно рассорились, оттаскали друг друга за бороды и в гневе разошлись. С тех пор, уже будучи врагами, мы не раз сидели в одном трактире, разумеется, каждый за своим столом, по старой привычке молча следили друг за другом, пили в одном и том же темпе и засиживались так долго, что оставались совсем одни и нас настоятельно просили поторопиться. Примирение так никогда и не состоялось.
Бесплодны и утомительны были вечные раздумья о причинах моей тоски и моего неумения жить. У меня отнюдь не было ощущения, будто я уже отцвел и засох и ни на что больше не гожусь; напротив, я полон был глухих порывов и верил, что и мне суждено в заветный час создать нечто глубокое и доброе и силой вырвать у неприступной жизни хотя бы горсть счастья. Но наступит ли он когда-нибудь, этот заветный час? С горечью думал я о тех современных нервных господах, которые понукают сами себя, изобретают тысячи способов, чтобы подвигнуть себя к творчеству, в то время как во мне давно томятся без дела могучие силы. Я мучительно искал ответа на вопрос, что же это за недуг или демон поселился в моем несокрушимом теле и тяжко гнетет слабеющую, задыхающуюся душу. При этом я еще странным образом склонен был считать себя экстраординарным, в какой-то мере обделенным судьбой человеком, страдания которого никто не знает, не понимает и никогда не разделит. В этом и заключается проклятье тоски – что она делает человека не только больным, но также близоруким и самонадеянным, а то и чванливым. Он тут же уподобляется в своих собственных глазах пошлому гейневскому Атланту[20], приявшему на плечи все боли и загадки мира, как будто тысячи других людей не претерпевают те же муки и не блуждают в том же лабиринте. В своей изолированности и оторванности от родины я незаметно утратил и сознание того, что большая часть моих свойств и особенностей – не моя собственность, а скорее фамильное достояние или фамильный недуг Каменциндов.
Примерно раз в две недели я наведывался в гостеприимный дом вышеупомянутого ученого. Постепенно я свел знакомство почти со всеми, кто там бывал. Это были в основном молодые студенты всех факультетов, в том числе много немцев, кроме того, два-три художника, несколько музыкантов и с полдюжины бюргеров со своими женами и подружками. Я часто с удивлением смотрел на этих людей, которые приветствовали меня как редкого гостя и о которых я знал, что они видятся друг с другом столько-то или столько-то раз на неделе. Чем они каждый раз занимались и о чем могли так много говорить друг с другом? Большинство из них представляли собой стереотипные экземпляры homo socialis; мне казалось, будто все они состоят друг с другом в некотором родстве, объединяемые неким нивелирующим духом обходительности, которого только я один и был лишен. Было среди них и несколько тонких и ярких личностей, у которых это вечное общение с другими, очевидно, не могло отнять их свежести и духовной силы, во всяком случае, не очень им вредило. С некоторыми из них я мог порою подолгу и с увлечением беседовать. Но переходить от одного к другому, задерживаясь с каждым лишь на минутку, наудачу говорить дамочкам любезности, сосредоточив свое внимание на чашке чая, двух беседах и фортепьянной пьесе в одно и то же время, и при этом выглядеть оживленным и веселым – этого я не умел. Сущим наказанием было для меня говорить о литературе или искусстве. Я видел, что на эту область приходится очень мало размышлений, очень много лжи и невыразимо много болтовни. Я без всякой радости лгал вместе со всеми и находил все это нескончаемое, бесполезное словоблудие скучным и унизительным. Гораздо охотнее я слушал, например, как какая-нибудь женщина рассказывает о своих детях, или сам рассказывал о своих путешествиях, о маленьких, будничных приключениях и других реальных вещах. Тон мой при этом нередко становился доверительным, почти веселым. Однако после таких вечеров я, как правило, направлялся в какой-нибудь погребок, чтобы промочить пересохшее горло и смыть с души мерзкую скуку фельтлинским.
На одной из этих вечеринок я вновь увидел черноволосую девушку. Гостей было много; они, по обыкновению, музицировали и производили привычный шум и гвалт, а я, запасшись папкой с рисунками, уединился в укромном уголке под лампой. Это были виды Тосканы – не обычные, тысячу раз виденные эффектные картинки, а более интимные, не для публики, а для души зарисованные ведуты, большей частью подарки друзей и дорожных знакомых хозяина. Я как раз только что наткнулся на рисунок каменного домика с узкими оконцами в одинокой долине близ Сан-Клементе, который я узнал, так как не раз гулял в тех местах. Долина эта расположена совсем рядом с Фьезоле, но толпы туристов она не привлекает, поскольку в ней нет следов старины. Стиснутая со всех сторон высокими, голыми и строгими горами, сухая и безлюдная, отрешенная от мира, печальная и нетронутая, она замечательна своей странной, суровой красотой.
Девушка подошла ко мне сзади и заглянула через плечо.
– Отчего вы всегда сидите один, герр Каменцинд?
Я рассердился. «Мужчины, верно, не очень балуют ее сегодня своим вниманием, поэтому она пришла ко мне», – подумал я.
– Что ж, я так и не дождусь ответа?
– Прошу прощения, фройляйн. Но что же мне вам ответить? Я сижу один, потому что мне это нравится.
– Стало быть, я вам мешаю?
– Странная вы, однако.
– Благодарю. Я о вас того же мнения.
И она уселась рядом. Я упорно продолжал держать в руках рисунок.
– Вы ведь горец, – сказала она. – Мне бы очень хотелось услышать ваш рассказ об Альпах. Мой брат говорит, что в вашей деревне есть лишь одна фамилия, что там все сплошь Каменцинды. Это правда?
– Почти, – буркнул я. – Есть еще булочник, которого зовут Фюсли. И трактирщик по имени Нидеггер.
– И больше ни одной другой фамилии? Только Каменцинд? И все приходятся друг другу родственниками?
– Более или менее.
Я протянул ей рисунок. По тому, как ловко она взяла его в руки, я понял, что она кое-что смыслит в этом. Я сказал ей об этом.
– Вы меня хвалите, как школьный учитель, – рассмеялась она.
– Не угодно ли вам взглянуть на рисунок? – спросил я грубо. – В противном случае я положу его обратно в папку.
– Что же здесь изображено?
– Сан-Клементе.
– А где это?
– Под Фьезоле.
– Вы бывали там?
– Да, много раз.
– Как она выглядит, эта долина? Здесь ведь только фрагмент.
Я задумался. Строгий, мужественно-прекрасный ландшафт развернулся перед моим внутренним взором, и я прикрыл глаза, чтобы он вновь не ускользнул от меня. Я не сразу ответил ей, и мне было приятно, что она тихо сидела и ждала. Она поняла, что я думаю.
И я принялся описывать долину Сан-Клементе, ее безмолвный, изможденный, но прекрасный лик, объятый пожаром знойного итальянского полдня. Совсем рядом, во Фьезоле, люди трудятся на своих фабриках или плетут свои корзины и соломенные шляпы, продают сувениры и апельсины, пристают к туристам, жульничают или попрошайничают. Дальше, внизу, раскинулась Флоренция, в которой слились, словно два потока, прошлое и настоящее. Из долины Сан-Клементе не видно ни Фьезоле, ни Флоренции. Здесь не работали художники, здесь нет римских построек; история забыла про бедную долину. Зато здесь борются с землей дожди и солнце, здесь упрямо цепляются за жизнь кривые пинии, а несколько кипарисов робко щупают небо своими тощими верхушками – не приближается ли враждебная буря, чтобы еще больше обнажить их жаждущие корни и сократить их и без того скудную жизнь. Время от времени проезжает запряженная волами телега с ближайшего хутора или неторопливо проходит крестьянская семья, направляющаяся во Фьезоле, однако люди кажутся здесь непрошеными гостями, и красные юбки крестьянок, всегда такие веселые, всегда радующие взор, здесь как-то некстати; хочется, чтобы они поскорее скрылись из вида.
Я рассказал о том, как еще юношей бродил там вместе со своим другом, отдыхал под кипарисами, прислоняясь к их тощим стволам, и о том, как эта странная долина своим сладостно-щемящим очарованием одиночества напоминала мне родные ущелья.
Мы немного помолчали.
– Вы поэт, – сказала девушка.
Я скорчил гримасу.
– Я имею в виду другое, – продолжала она. – Не потому, что вы пишете новеллы и тому подобные вещи. А потому, что вы понимаете и любите природу. Другим нет никакого дела до того, что это дерево шелестит листвой, а та горная вершина пылает на солнце. Вы же видите в этом жизнь и сами можете жить этой жизнью.
Я ответил, что никто не «понимает природу» и что все эти поиски и попытки «постичь» не приносят ничего, кроме печали и новых загадок. Освещенное солнцем дерево, обветренный камень, животное, гора – они обладают жизнью, своей собственной историей; они живут, страдают, борются, блаженствуют, умирают, но нам этого не понять.
Продолжая говорить и радуясь при этом ее тихому, терпеливому вниманию, я принялся разглядывать ее. Она смотрела мне в лицо и не отводила глаз, встретившись с моим взглядом. Лицо ее, совершенно спокойное и слегка напряженное от внимания, казалось, было целиком во власти моего голоса. Так, будто слушателем моим был ребенок. Нет, пожалуй, не ребенок, а взрослый, который, забывшись, делает по-детски удивленные глаза и не замечает этого. Так, разглядывая ее, я постепенно, с наивной радостью открытия, понял, что она очень красива.
Когда я умолк, девушка еще некоторое время тоже не произносила ни слова. Наконец она встрепенулась и заморгала на свет лампы.
– Как, собственно, ваше имя, фройляйн? – спросил я без всякой задней мысли.
– Элизабет.
Она ушла, и вскоре ее заставили поиграть на фортепьяно. Играла она хорошо. Но когда я подошел ближе, то увидел, что она уже вовсе не так красива, как несколько минут назад.
Спускаясь по уютной старомодной лестнице, чтобы отправиться домой, я услышал обрывок разговора двух художников, надевавших в передней свои пальто.
– Однако целый вечер он был занят красоткой Лизбет, – сказал один и рассмеялся.
– В тихом омуте!.. – откликнулся второй. – А выбор-то его трудно назвать неудачным!
Значит, эти обезьяны уже судачат о нас. Мне вдруг пришло в голову, что я почти против воли поделился с этой чужой девицей интимными воспоминаниями, выложил перед нею добрый кусок своей внутренней жизни. Как же это могло случиться? А сплетники уже тут как тут! Мерзавцы!
Я ушел и несколько месяцев не показывался в этом доме. Случаю угодно было, чтобы именно один из тех двух художников оказался первым, кто, встретив меня на улице, стал допытываться о причинах моего долгого отсутствия.
– Почему вы больше не бываете там?
– Потому что я терпеть не могу эти гнусные сплетни, – ответил я.
– Да, наши дамы!.. – рассмеялся этот тип.
– Нет, – возразил я, – я как раз имею в виду мужчин, в особенности господ художников.
Элизабет я за эти несколько месяцев видел всего лишь два раза: один раз в лавке, другой раз в выставочном зале. Обычно она была просто хороша, но не красива. Движения ее и чересчур стройная фигура заключали в себе некую изысканность, которая была ей к лицу и выделяла ее среди прочих женщин, но иногда вдруг начинала казаться вычурной и неестественной. Но в тот раз, в выставочном зале, она была красива, чрезвычайно красива. Меня она не видела. Присев в сторонке немного отдохнуть, я листал каталог. Она стояла поблизости от меня перед большим полотном Сегантини[21] и была совершенно поглощена картиной. На ней изображены были несколько девушек-крестьянок, работающих на худосочных горных лугах; вдали виднелись зубчатые, крутые горы, чем-то похожие на Штокхорн, а над ними, в ясном, прохладном небе, – потрясающее, гениально написанное облако цвета слоновой кости. Оно поражало в первый же миг своей причудливо клубящейся, свитой в тугие кольца массой; ветер только что собрал его в комок, замесил, и оно уже готово было подняться ввысь и медленно тронуться в путь. Должно быть, Элизабет поняла это облако, потому что она созерцала его, позабыв обо всем на свете. Всегда прячущаяся душа ее вновь проступила на лице и тихо улыбалась из широко открытых глаз, сделав чересчур узкий рот по-детски мягким и разгладив не по годам умную, скорбную складку между бровей. Красота и истинность великого произведения живописи заставили и душу зрителя совлечь с себя все покровы и предстать во всей своей красоте и истинности.
Я тихонько сидел рядом и любовался то прекрасным облаком Сегантини, то прекрасной девушкой, восхищенной этим облаком. Потом, вдруг испугавшись, что она может оглянуться, увидеть меня, заговорить и вновь лишиться своей красоты, я быстро и бесшумно покинул зал.
В те дни радость, внушаемая мне немой природой, и мое отношение к ней претерпевали странную метаморфозу. Я вновь и вновь бродил по удивительным окрестностям города и нередко добирался до самых отрогов Юры. Я вновь и вновь видел леса и горы, альпийские луга, фруктовые деревья и кустарники, которые стояли и молча ждали чего-то. Или кого-то. Быть может, меня. Во всяком случае – любви.
И я начал любить их. Могучее, подобное жажде влечение родилось во мне и потянулось навстречу их тихой красоте. Во мне тоже глухо просились наружу, вожделея осознания, понимания, любви, глубинная жизнь и тоска.
Многие говорят, что «любят природу». Это означает, что они не прочь время от времени вкушать ее общедоступных прелестей. Они отправляются на прогулку и радуются красоте земли, вытаптывают луга и возвращаются, не преминув нарвать целые охапки цветов, чтобы вскоре выбросить их или сунуть дома в вазу и тут же забыть про них. Так они любят природу. Они вспоминают об этой любви в погожие воскресные дни и сами умиляются своему доброму сердцу. Они могли бы и не утруждать себя, ведь «человек – это венец природы». Да уж, венец!..
Итак, я со все большим любопытством смотрел вглубь вещей. Я слышал многоголосое пение ветра в кронах деревьев, слышал грохот скачущих по ущельям ручьев и тихий плеск кротких равнинных потоков, и я знал, что все эти звуки суть язык Бога и что понять этот темный, дивный Праязык – значит вновь обрести утерянный рай. Книги молчат об этом; лишь в Библии есть чудесное слово о «неизреченных воздыханиях» живой твари. Но я чувствовал, что во все времена находились люди, которые, как и я, пленившись этим непонятным, бросали свои каждодневные заботы и искали тишины, чтобы послушать песнь творения, полюбоваться полетом облаков и в неотступной тоске молитвенно протянуть руки навстречу вечному. Отшельники, кающиеся грешники и святые.
Ты когда-нибудь бывал в Пизе, в Кампосанто[22]? Стены там украшены выцветшими фресками прошлых столетий, и одна из них изображает жизнь отшельников в фивейской пустыне. Наивная картина, несмотря на выцветшие краски, излучает такое волшебство, такой блаженно-невозмутимый мир, что ты испытываешь внезапную боль и неистовое желание очиститься где-нибудь в заповедной, священной дали, выплакав все свои грехи, и никогда более не возвращаться обратно. Бесчисленное множество художников вот так же пытались выразить свою тоску по родине в безмятежных картинах, и какая-нибудь маленькая, милая, детская картинка Людвига Рихтера[23] пропоет тебе ту же песню, что и пизанские фрески. Почему Тициан, друг зримого и осязаемого, порою писал свои ясные и предметные композиции на фоне сладких, небесно-голубых далей? Всего лишь несколько мазков глубокой, теплой лазури, так что не видно даже, далекие ли это горы или просто безбрежное пространство. Реалист Тициан и сам не знал этого. Он делал это вовсе не в угоду цветовой гармонии, как ошибочно полагают искусствоведы; это была всего лишь дань Неутолимому, таившемуся и в душе этого жизнерадостного счастливца. Искусство, казалось мне, во все времена стремилось даровать внятный голос нашей немой жажде Божественного.