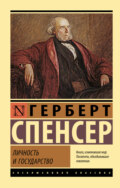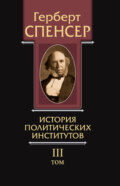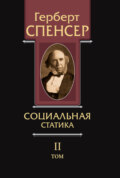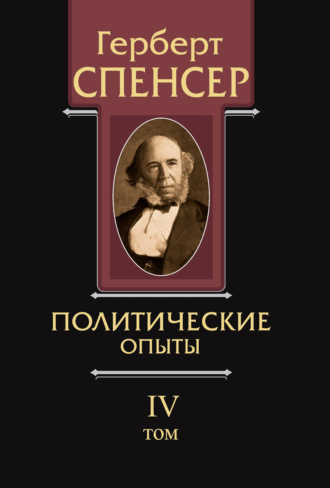
Герберт Спенсер
Политические сочинения. Том IV. Политические опыты
Переход от однородного к разнородному проявляется не только в отделении этих искусств одного от другого и от религии, но также и в умножившихся дифференцированиях, через которые каждое из них впоследствии проходит. Чтобы не останавливаться на бесчисленных родах танцев, которые с течением времени вошли в употребление, и чтобы не распространяться в подробном описании прогресса поэзии, заметного в умножении разных форм размера, рифмы и общего строения, – ограничимся рассмотрением музыки как типа всей группы. Как это можно заключить из обыкновений, доселе существующих у диких народов, первые музыкальные инструменты были, без сомнения, ударные – палки, выдолбленные тыквы, тамтамы – и употреблялись только для обозначения темпа в танцах; в этом постоянном повторении одного и того же звука музыка является нам в самой однородной ее форме. Египтяне имели лиру с тремя струнами. Древнейшая греческая лира была четырехструнная – тетрахорд. В течение нескольких столетии были употребляемы семи- и восьмиструнные лиры. По истечении тысячи лет они достигли «большой системы», в две октавы. Среди всех этих изменений возникла, конечно, и большая разнородность мелодий. Одновременно с этим вошли в употребление различные лады – дорический, ионический, фригийский, эолийский и лидийский, соответствующие нашим тонам; число их, наконец, дошло до пятнадцати. До сих пор, однако, в размере музыки было еще мало разнородности. Так как в течение этого периода инструментальная музыка служила только аккомпанементом вокальной, а вокальная была совершенно подчинена словам; так как певец был в то же время и поэт, поющий свои собственные сочинения и согласовавший длину своих нот со стопами своих стихов, – то из этого неизбежно должно было произойти утомительное однообразие в размере, которое, как говорит д-р Борни, «нельзя было прикрыть никакими средствами мелодии». За недостатком сложного ритма, достигаемого нашими равными тактами и неравными нотами, единственный возможный ритм зависел от количества слогов и, следовательно, необходимо был сравнительно однообразен. Далее, можно заметить, что напев, возникавший таким образом, будучи чем-то вроде речитатива, значительно менее дифференцировался от обыкновенной речи, нежели наше новейшее пение. Несмотря на это, благодаря большему числу употребляемых нот, разнообразию ладов, случайным изменениям в темпе, зависящим от изменений в размере стиха, и умножению музыкальных инструментов, музыка достигла к концу греческой цивилизации значительной разнородности, конечно, не по сравнению с нашей музыкой, но по сравнению с предшествовавшей. Но все-таки, кроме мелодии, не существовало ничего иного: гармония была неизвестна. Только когда христианская церковная музыка достигла некоторого развития, появилась и разноголосая музыка, возникшая путем весьма незаметного дифференцирования. Как ни трудно понять априори, каким образом мог произойти переход от мелодии к гармонии без внезапного скачка, тем не менее несомненно, что так было дело. Обстоятельство, подготовившее путь для этого, состояло в употреблении двух хоров, певших попеременно одну и ту же арию. Впоследствии возник обычай – первоначально порожденный, вероятно, ошибкой, – чтобы второй хор начинал прежде, нежели кончит первый, образуя таким образом фугу. При простых напевах, бывших тогда в употреблении, нет ничего невероятного, что фуга эта была отчасти гармонична; и достаточно было только отчасти гармонической фуги, чтобы удовлетворить слушателей той эпохи, как мы это видим по дошедшим до нас образцам тогдашней музыки. Как только явилась новая идея, сочинение арий, допускавших фугальную гармонию, стало естественно возрастать, как до известной степени оно должно было возрастать и из очередного хорового пения. От фуги же к концертной музыке в две, три, четыре и более партий переход был легок. Не указывая подробно на увеличившиеся усложнения, зависевшие от введения нот различной длины, от умножения тонов, от употребления акцидентов, от разнообразия темпа и т. д., надо только сопоставить музыку, как она есть, и музыку, как она была, чтобы увидеть, как громадно усиление разнородности. Мы увидим это, если, взглянув на музыку в ее целом, переберем различные ее роды и виды, – если мы обратим внимание на разделение ее на вокальную, инструментальную и смешанную; на подразделение ее на музыку для разных голосов и разных инструментов; если мы рассмотрим различные формы духовной музыки, начиная от простого гимна, гласа, канона, мотета, двухорного напева и т. д. до оратории, и еще более многочисленные формы светской музыки, от баллады до серенады и от инструментального соло до симфонии. Эта же самая истина видна и при сравнении какого-нибудь образца первобытной музыки с образцом новейшей, хотя бы с обыкновенной песнью для фортепиано; мы найдем ее сравнительно в высшей степени разнородной не только по разнообразию регистров и длины нот, по числу различных нот, звучащих в одну и ту же минуту в сопровождении голоса, и по различным степеням силы, с которой они издаются инструментом или голосом, но и по перемене тонов, перемене темпа, перемене интонации голоса и многим другим изменениям выражения. Итак, между старинным, монотонным плясовым пением и большой оперой наших дней, с ее бесконечными оркестровыми усложнениями и вокальными комбинациями, контраст в разнородности дошел до таких пределов, что кажется едва вероятным, чтобы первое могло быть предком второй.
В случае надобности можно было бы привести многие дальнейшие пояснения. Обращаясь к тому раннему времени, когда деяния бого-государя повествовались картинными письменами на стенах храмов и дворцов, образуя таким образом грубый вид литературы, мы можем проследить ход литературы через фазисы, в которых, как в еврейских писаниях, она соединяет в одном и том же произведении богословие, космогонию, историю, биографию, гражданский закон, этику, поэзию – до настоящего ее разнородного развития, в котором деление и подразделение ее так многочисленны и так разнообразны, что полная классификация их почти невозможна. Мы можем также проследить развитие науки, начиная с той эпохи, когда она не была еще дифференцирована от искусства и, соединенная с ним, составляла слугу религии. Перейдя к эпохе, в которую науки были так немногочисленны и элементарны, что все вместе обрабатывались одними и теми же философами, мы дошли бы наконец до той эпохи, в которую роды и виды наук так многочисленны, что немногие в состоянии перечесть их и никто не может овладеть в совершенстве хотя бы одним из родов. Мы можем, наконец, точно так же рассмотреть архитектуру, драму, историю одежды. Но читатель, без сомнения, утомился всеми этими пояснениями; и обещание, данное вначале, выполнено. Мы полагаем, что бесспорно доказали, что то, что фон Бэр определил как закон органического развития, есть закон всякого развития. Переход от простого к сложному путем процесса последовательных дифференцирований одинаково виден в самых ранних изменениях Вселенной, до которых мы можем дойти путем умозаключений, и в тех, определить которые мы можем путем индукции; этот переход виден в геологическом и климатическом развитии Земли и в развитии каждого отдельного организма на ее поверхности; он виден в развитии человечества, будет ли оно рассматриваться в цивилизованном индивиде или в массе различных рас; он виден в развитии общества, по отношению к его политической, религиозной или экономической организации; он виден, наконец, в развитии всех бесчисленных конкретных или абстрактных произведений человеческой деятельности, которые составляют обстановку обыденной нашей жизни. Сущность всего прогресса – начиная с отдаленнейших времен прошлого, которых наука имеет хоть какую-нибудь возможность достигнуть, и до вчерашней летучей новости – заключается в превращении однородного в разнородное.
Теперь, из этого единообразия в порядке действий, не можем ли мы заключить о какой-либо основной необходимости, порождающей его? Не можем ли мы разумно искать какого-либо вездесущего принципа, определяющего этот вездесущий процесс вещей? Всеобщность закона не предполагает ли и всеобщую причину?
Возможность проникнуть в эту причину, рассматриваемую как нумен (вещь сама в себе), невозможно допустить. Это значило бы разрешить ту конечную тайну, которая всегда будет переходить за пределы человеческого разума. Но мы все-таки имеем возможность перевести закон всякого прогресса, как он установлен выше, из состояния эмпирического обобщения к состоянию рационального обобщения. Точно так, как оказалось возможным объяснить законы Кеплера, как необходимое следствие закона тяготения, точно так можно истолковать и закон прогресса, в его многообразных проявлениях, как необходимое следствие какого-нибудь столь же всеобщего начала. Как тяготение могло быть поставлено причиной каждой из групп явлений, формулированных Кеплером, точно так и какое-нибудь столь же простое свойство вещей может быть поставлено причиной каждой из групп явлений, формулированных на предыдущих страницах. Мы можем связать все эти разнообразные и сложные развития однородного в разнородное с известными простыми фактами непосредственного опыта, которые, в силу бесконечного повторения, мы считаем необходимыми.
Допустив вероятность существования общей причины и возможность ее формулирования, полезно будет, прежде чем идти далее, рассмотреть, каковы могут быть общие характеристические черты этой причины и где именно следует искать ее. Можно, наверное, предсказать, что она имеет высокую степень общности, что она обща стольким бесконечно разнообразным явлениям. Мы не должны ожидать в ней прямого разрешения той или другой формы прогресса, ибо она равно относится и к таким формам прогресса, которые имеют мало внешнего сходства с какими-либо другими; ее связь с разнообразными разрядами фактов подразумевает и отчуждение ее от какого-либо отдельного разряда фактов. Составляя сущность того, что обусловливает прогресс всякого рода: астрономический, геологический, органический, этнологический, социальный, экономический, художественный и т. д., – причина эта должна быть в связи с каким-нибудь основным свойством, общим всем им, и должна выражаться в терминах этого основного свойства. Одно явное свойство, в котором сходятся все роды прогресса, состоит в том, что все они суть роды изменений, и, следовательно, в некоторых характеристических чертах изменений вообще может быть найдено желанное решение. Мы можем априори предположить, что объяснение этого всеобщего превращения однородного в разнородное лежит в каком-нибудь законе изменений.
Предположив это, разом мы переходим к установлению следующего закона: каждая действующая сила производит более одного изменения – каждая причина производит более одного действия.
Для того чтобы закон этот был правильно понят, должно представить несколько примеров. При ударе одного тела о другое то, что мы обыкновенно называем действием, состоит в изменении положения или движения одного или обоих тел. Но один момент размышления укажет нам, как необдуман и неполон подобный взгляд на вещи. Кроме видимого механического результата, произведен еще звук или, выражаясь точнее, колебание в одном или обоих телах и в окружающем их воздухе: при известных обстоятельствах мы и это называем действием. Сверх того, в воздухе произошло не только колебание, но образовалось и несколько течений, причиненных прохождением тел. Далее, происходит перемещение частиц тела, соседних с точкой их столкновения, – перемещение, доходящее иногда до заметного увеличения плотности тела. Еще далее, увеличение плотности тела сопровождается отделением теплоты. В иных случаях результатом бывает искра, т. е. свет от воспламенения отбитой части; а иногда воспламенение это сопряжено с химическими сочетаниями. Итак, первоначальная, механическая, сила, затраченная при ударе, производит по крайней мере пять, а часто и более, различных родов изменений. Возьмем еще пример – горение свечи. Первоначально является химическое изменение, зависящее от повышения температуры. Процесс соединения, однажды возбужденный посторонней теплотой, порождает беспрестанное образование углекислоты, воды и т. д., что само по себе составляет явление более сложное, нежели посторонняя теплота, первоначально породившая его. Но рядом с этим процессом соединения является теплота, свет; порождается восходящая струя разгоряченных газов; в окружающем воздухе образуются различные течения. Сверх того, разложение одной силы на несколько сил еще не кончается здесь: каждое отдельное произведенное изменение становится, в свою очередь, родоначальником дальнейших изменений. Отделенная углекислота понемногу соединится с каким-либо основанием или, под влиянием солнца, выделит углерод свой листьям какого-нибудь растения. Вода изменит гигрометрическое состояние окружающего воздуха, или если течение горячих газов, содержащих эту воду, придет в соприкосновение с холодным телом, то вода сгустится, изменяя температуру поверхности, покрываемой ею. Отделившаяся теплота растапливает сало свечи и расширяет все, что согревает. Свет, падая на различные вещества, вызывает в них реакции, изменяющие его; таким образом порождаются различные цвета; и все это происходит одновременно с теми второстепенными действиями, которые можно проследить в постоянно умножающихся разветвлениях, пока они не станут слишком мелочными для оценки. То же самое повторяется со всеми изменениями. Нельзя указать ни одного случая, где действующая сила не развила бы различных родов сил и где каждая из новых не развила бы, в свою очередь, новые группы сил. Вообще действие всегда бывает сложнее причины.
Читатель, без сомнения, уже предвидит дальнейший ход нашей аргументации. Это умножение результатов, проявляющееся в каждом из переживаемых нами событий, шло подобным порядком с самого начала и равно истинно как по отношению к величайшим, так и по отношению к самым незначительным явлениям Вселенной. Неизбежное заключение из закона, что всякая действующая сила производит более одного изменения, есть то, что во все времена происходило постоянно возраставшее усложнение вещей. Отправляясь от конечного факта, что всякая причина производит более одного действия, мы легко увидим, что сквозь все творение непременно шло и теперь идет непрерывное превращение однородного в разнородное. Но проследим эту истину подробнее.
Начнем опять с развития Солнечной системы из туманной массы, принимая его по-прежнему за гипотезу, хотя в высшей степени вероятную. Путем взаимного притяжения атомов рассеянной массы, форма которой была несимметрична, возникло, согласно гипотезе, не только сгущение, но и вращение. По мере прогрессивно увеличивавшегося сгущения и быстроты вращения приближение атомов необходимо порождало прогрессивно возвышающуюся температуру. По мере повышения температуры начинает развиваться свет, и, наконец, образуется вращающаяся сфера жидкого вещества, испускающего сильную теплоту и свет: это Солнце. Есть основательные причины предполагать, что вследствие тангенциальной быстроты и зависящей от нее центробежной силы, приобретенной внешними частями сгущающейся туманной массы, должно было произойти периодическое отделение вращающихся колец и что при разрывах этих колец возникают массы, повторяющие в процессе своего сгущения действия первоначальных масс, образуя таким образом планеты и их спутников; вывод этот имеет сильную поддержку в доселе существующих кольцах Сатурна. Если впоследствии подобное происхождение планет будет удовлетворительно доказано, то оно послужит поразительным пояснением тех в высшей степени разнородных действий, которые произведены первоначально однородной причиной; но для нашей настоящей цели достаточно будет указать на тот факт, что путем взаимного притяжения частиц неправильной туманной массы в результате получается сгущение, вращение, теплота и свет.
Заключение, вытекающее из гипотезы туманной массы, есть то, что Земля вначале должна была находиться в раскаленном состоянии; и верна ли или нет гипотеза туманной массы, во всяком случае, эта первоначальная раскаленность Земли теперь доказана индуктивным путем, или если не доказана, то по крайней мере доведена «до такой высокой степени вероятности, что составляет общепринятое геологическое учение». Взглянем прежде всего на астрономические свойства этого некогда расплавленного шара. Результатами его вращения являются сплющенная у полюсов форма его, очередная смена дня и ночи и (под влиянием Луны и в меньшей степени Солнца) приливы и отливы водные и атмосферические. Наклонение его оси производит одновременные и последовательные различия, происходящие на его поверхности, соответственно временам года. Таким образом, размножение действий очевидно. Мы уже упомянули о различных дифференцированиях, зависящих от постепенного охлаждения Земли, каковы образование коры, отвердение газообразных элементов, осаждение воды и т. д.; здесь мы опять обращаемся к ним, собственно, для того, чтобы указать на одновременные действия одной причины – уменьшения теплоты. Обратим, однако, теперь внимание наше на умножившиеся изменения, возникшие впоследствии от продолжительности действия одной этой причины. Охлаждение Земли влечет за собой ее сжатие. Отсюда происходит то, что первоначально образовавшаяся кора немедленно становится слишком обширной для суживающегося ядра и, по невозможности поддерживать самое себя, неизбежно подражает ядру. Но сфероидальная оболочка не может без разрыва достигнуть соприкосновения с находящимися внутри нее меньшим сфероидальным телом: она должна сморщиться, подобно тому как морщится кожа яблока, когда содержимое его уменьшается путем испарения. По мере того как охлаждение увеличивается, кора становится толще, морщины, производимые этим сжатием, должны увеличиваться, возрастая, наконец, до холмов и гор; и последние горные системы, образовавшиеся таким образом, должны быть не только выше, как мы это и видим, но и длиннее, как мы тоже и это видим. Таким образом, оставляя в стороне другие изменяющие силы, мы видим, как велика разнородность поверхности, возникшая от одной причины – потери теплоты, разнородность, аналогии которой телескоп показывает нам на поверхности Марса, которая открывается в несколько иной форме на Луне, где деятельность воды и воздуха не имела места. Но мы должны еще обратить внимание на другой род разнородности на земной поверхности, зависящий от подобной же и одновременной причины. Пока земная кора была еще тонка, не только возвышения, произведенные ее сжатием, должны были быть незначительны, но и углубления между этими возвышениями должны были с большей ровностью лежать на находившемся под ними жидком сфероиде, и вода в тех арктических и антарктических странах, где она впервые сгустилась, должна была распределяться ровно. Но как скоро кора стала толще и приобрела соответственную крепость, линии разрывов, производившихся в ней от времени до времени, должны были встречаться на большем расстоянии друг от друга; промежуточные пространства с меньшим однообразием следовали за сжимающимся ядром; и результатом этого было образование больших площадей суши и воды. Если кто-нибудь, завернув апельсин в тонкую мокрую бумагу и заметив не только то, как незначительные морщинки, но и то, как ровно промежуточные пространства прилегают к поверхности апельсина, – завернет его потом в толстую патронную бумагу и обратит внимание как на большую степень возвышений, так и на гораздо значительнейшие пространства, на которых бумага не касается апельсина, тот объяснит себе факт, что по мере утолщения твердой оболочки земли плоскости возвышений и низменностей должны были увеличиться. Вместо островов, более или менее однородно рассеянных по всеобъемлющему морю, постепенно возникло разнородное распределение материка и океана в таком виде, какой представляется нам теперь. Еще далее это двоякое изменение в пространстве и возвышении суши повело за собой новый род разнородности – разнородность береговых линий. Ровная поверхность, поднявшаяся над океаном, должна была иметь простые, правильные морские берега; но поверхность, усложненная плоскими возвышенностями и пересеченная цепями гор, должна была, поднявшись из океана, иметь чрезвычайно неправильный вид как в главных чертах своих, так и в подробностях. Таково бесконечное накопление геологических и географических результатов, медленно произведенных одной и той же причиной – сжатием Земли.
Переходя от деятельности, которую геологи называют вулканической, к деятельности нептунической и атмосферической, мы видим ту же постоянно возрастающую сложность действий. Разрушающие действия воздуха и воды с самого начала стали изменять все открытые поверхности, производя повсюду различные перемены. Окисления, жар, ветер, мороз, дождь, ледники, реки, приливы и отливы, волны беспрерывно производили дезинтеграции, изменявшиеся в родах и размерах сообразно с местными обстоятельствами. Действуя на гранитную массу, деятели эти редко получают особенно заметное влияние: там причинят отслойку поверхности, а затем груды обломков и валунов; в другом месте, разложив полевой шпат, уносят белую глину вместе с кварцем и слюдой и осаждают их в отдельные русла, речные и морские. Там, где открытая плоскость состоит из нескольких несходных между собой формаций, осадочных или огненных, обнажение производит изменения относительно более разнородные. Различные формации, дезинтегрируясь в различной степени, усложняют неправильность поверхности. Так как равнины, орошаемые различными реками, различны в своем составе, то реки эти уносят в море различную смесь ингредиентов, и таким образом образуются несколько новых слоев различного состава. Здесь мы видим весьмд простое пояснение истины, которую нам сейчас придется проследить в более сложных случаях, а именно: что соразмерно разнородности предмета или предметов, подвергающихся действию какой-либо силы, увеличивается и разнородность результатов, порождаемых ею. Материк сложного строения, представляющий многие, неправильно распределенные слои, поднятый на различные уровни, наклоненный под различными углами, должен, под влиянием одних и тех же обнажающих деятелей, породить бесконечно разнообразные результаты: каждая местность будет изменена различным образом, каждая река должна унести различный род осадков; каждый осадок должен быть различно распределен разветвляющимися течениями, приливами и пр., омывающими изогнутые берега; и это размножение результатов должно быть наиболее значительно там, где усложнение поверхности наиболее значительно.
Здесь мы могли бы показать, как общая истина, что каждая действующая сила производит более одного изменения, подтверждается примерами в высшей степени сложных морских приливов и отливов, океанских течений, ветров, распределения дождя, распределения теплоты и т. д. Но, не останавливаясь на них, рассмотрим, для полнейшего разъяснения этой истины в отношении к неорганическому миру, каковы были бы последствия какого-нибудь обширного космического переворота, положим, хоть затопления Центральной Америки. Непосредственные результаты разрушения были бы сами по себе достаточно сложны. Кроме бесчисленных расчленений слоев, извержений огненных веществ, кроме распространения землетрясений и колебаний на тысячи миль кругом, кроме громких взрывов и выхода газов, – два океана, Атлантический и Тихий, ринулись бы наполнить пустое пространство; последовало бы столкновение громадных волн, которые прошли бы через оба эти океана, производя мириады изменений вдоль их берегов; соответственные атмосферические волны усложнились бы воздушными течениями, окружающими всякую вулканическую струю, и электрическими разряжениями, сопровождающими подобные перевороты. Но эти временные действия были бы незначительны сравнительно с постоянными. Сложные течения Атлантического и Тихого океанов изменились бы в направлении и размере. Распределение теплоты, обусловленное этими морскими течениями, стало бы иным, нежели теперь. Положения изотермических линий изменились бы не только на соседних континентах, но и по всей Европе. Приливы и отливы приняли бы другое направление нежели теперь. Произошло бы большее или меньшее изменение в периодах, силе, направлении и свойствах ветров. Дождь едва ли шел бы тогда в тех же местах и в таком же количестве, как теперь. Словом, со всех сторон, на тысячу миль кругом, метеорологические условия были бы более или менее возмущены. Таким образом, оставляя без внимания бесконечность изменений, произведенных этими переменами климата на флору и фауну, как земную, так и морскую, читатель увидит огромную разнородность результатов, порожденную одной и той же силой, когда сила эта распространяется на поверхность, предварительно уже усложненную, – и легко выведет заключение, что усложнение это с самого начала постоянно увеличивалось.
Прежде чем покажем, что органический прогресс также зависит от того всеобщего закона – что каждая сила производит более одного изменения, – мы должны обратить внимание на проявление этого закона еще в другом виде неорганического прогресса, именно в химическом. Общие причины, породившие разнородность земли в физическом отношении, одновременно породили и ее химическую разнородность. Есть различные основания для предположения, что при крайне высокой степени жара элементы не могут соединяться. Даже при наибольшей степени искусственного жара некоторые весьма сильные химические сродства уничтожаются, как, например, сродство кислорода и водорода; большинство же химических соединений разлагается при гораздо низшей температуре. Но, не настаивая на весьма вероятном предположении, что, когда Земля была в своем первоначальном состоянии раскаленности, химических соединений вовсе не существовало, – для нашей цели достаточно будет указать тот несомненный факт, что соединения, могущие существовать при высших температурах и которые, следовательно, должны были быть первыми из образовавшихся при охлаждении Земли, суть простейшие по своему составу. Закиси, включая в этот разряд щелочи, земли и т. п., представляют в целом самые постоянные из известных нам сложных тел: большинство их противится разложению при высшей степени жара, какую мы можем произвести. Тела эти представляют соединения простейшего рода: они только на одну степень менее однородны, чем сами элементы. Более разнородные, менее постоянные и, следовательно, более новые в истории Земли суть окиси, перекиси, кислоты и т. д., в которых два, три, четыре или более атомов кислорода соединены с одним атомом металла или другого элемента. Большую степень разнородности имеют гидраты, в которых окись водорода (вода), соединенная с окисью какого-либо другого элемента, образует вещество, атомы которого, каждый порознь, заключают в себе по крайней мере четыре основных атома трех различных родов. Еще более разнородны и еще менее постоянны соли, представляющие нам сложные атомы каждый из пяти, шести, семи, восьми, десяти, двенадцати и более атомов трех, если не более, родов. Далее есть гидраты солей еще большей разнородности, подверженные отчасти разложению при гораздо низшей температуре. За ними следуют еще более сложные кислые и двойные соли, коих постоянство еще меньше, и т. д. Не входя, по недостатку места, в подробные обозначения, мы полагаем, что никакой химик не станет отрицать того, что общий закон этих неорганических соединений есть тот, что при равенстве других условий постоянство соединений уменьшается по мере возрастания их сложности. Потом, когда мы переходим к соединениям органической химии, мы находим, что этот общий закон имеет еще дальнейшие приложения: мы видим гораздо большее усложнение и гораздо меньшее постоянство. Один атом альбумина, например, состоит из 482 основных атомов пяти различных родов. Фибрин, еще более сложный по составу, содержит в каждом атоме 298 атомов углерода, 49 – азота, 2 – серы, 228 – водорода и 92 атома кислорода, итого 669 атомов или, выражаясь вернее, паев. И эти два вещества так непостоянны, что разлагаются при самых обыкновенных температурах, как, например, при температуре, потребной для обжаривания куска мяса. Таким образом, очевидно, что настоящая химическая разнородность земной поверхности возникала постепенно, по мере того как позволяло уменьшение теплоты, и что она проявилась в трех формах: 1) в увеличении числа химических соединений; 2) в увеличении числа различных элементов, содержащихся в новейших из этих соединений, и 3) в высших и более разнообразных усложнениях, в которые соединяются эти более многочисленные элементы.
Сказать, что это увеличение химической разнородности зависит только от одной причины – от понижения температуры Земли, значило бы преувеличить дело: ясно, что здесь сопричастны были нептунический и атмосферический деятели и, наконец, самое сродство элементов. Действовавшая причина постоянно была сложной: охлаждение Земли было только самой общей из всех действовавших причин или из всей совокупности условий. Здесь можно заметить, что в различных разрядах рассмотренных выше фактов (за исключением, может быть, первого) и еще более в тех, которые нам сейчас придется рассматривать, причины везде более или менее сложны; несложных причин мы почти вовсе не знаем. Едва ли можно, с логической точностью, приписать какое-либо изменение исключительно одному деятелю, оставляя в стороне постоянные или временные условия, при которых деятель этот только и может произвести известную перемену. Но так как это не имеет существенного влияния на нашу аргументацию, то мы предпочитаем для простоты употреблять везде популярный способ выражения. Может быть, нам заметят далее, что указывать на утрату теплоты, как на причину каких-либо изменений, значит, приписывать эти перемены не силе, а отсутствию силы? Это будет справедливо. В строгом смысле эти изменения должны быть приписываемы тем силам, которые приходят в действие при удалении враждебной силы. Но хотя и есть неточность в выражении, что замерзание воды зависит от утраты ее теплоты, все же из этого не возникает никакого практического заблуждения; точно так же не исказит подобная небрежность выражения и наших положений относительно усложнения действий. В сущности, возражение это заставляет только обратить внимание на тот факт, что не только действие какой-либо силы производит более одного изменения, но и удаление какой-либо силы производит более одного изменения.