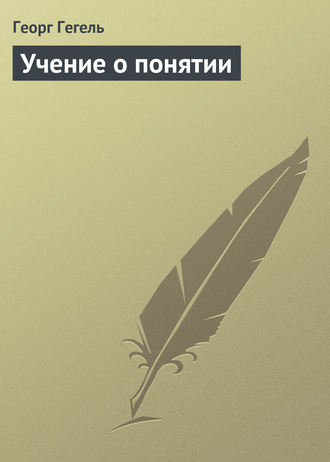
Георг Гегель
Учение о понятии
3. Теорема (Lehrsatz)
1. Третья ступень этого направляющегося к определениям понятия познания есть переход от частности к единичности; эта ступень составляет содержание теоремы. Следовательно то, что здесь подлежит рассмотрению, есть относящаяся к себе определенность, различение предмета в себе самом и взаимное отношение различенных определенностей. Определение содержит в себе лишь одну определенность, разделение – определенность против другой; в переходе к единичности предмет вошел в отношение извне внутрь себя самого. Между тем как определение останавливается на общем понятии, в теоремах предмет познается напротив в своей реальности в условиях и формах своего реального существования. Поэтому он вместе с определением изображает собою идею, которая есть единство понятия и реальности. Но рассматриваемое здесь, еще погруженное в искание познание не доходит до этого изображения постольку, поскольку реальность при нем не проистекает из понятия, и стало быть ее зависимость от последнего и вместе с тем самое их единство еще не познается.
По только что приведенному определению теорема есть в собственном смысле слова синтетическое в предмете, поскольку отношение ее определенности необходимо, т. е. обосновано на внутреннем тожестве понятия. Синтетическое в определении и разделении есть некоторая внешним образом принимаемая связь; то, что найдено, приводится в форму понятия, но, как найденное, все содержание только показывается; теорема же должна быть доказана. Так как это познание не выводит содержания своего определения и основания разделения, то, казалось бы, что оно может обойтись и без доказательства тех отношений, которые выражаются теоремою, и в этом смысле также довольствоваться восприятием. Но то, что отличает познание от простого восприятия и представления, есть форма понятия вообще, сообщаемая им содержанию; это достигается определением и разделением; но так как содержание теоремы проистекает из момента понятия единичности, то оно состоит в определениях реальности, отношения которых уже не принадлежат простым и непосредственным определениям понятия; в единичности понятие перешло в инобытие, в реальность, в силу чего стало идеею. Синтез, заключающийся в теореме, тем самым уже не оправдывается формою понятия; он есть связывание различных; еще не положенное при этом единство должно быть еще указано, и потому доказательство необходимо тут для самого сказанного познания.
Ближайшим образом при этом возникает затруднение определенно различить, какие из определений предмета должны быть приняты в определения, и какие отнесены в теорему. Здесь не может быть установлено никакого принципа; он кажется заключающимся лишь в том, что то, что непосредственно присуще некоторому предмету, входит в состав определения; для прочего же, как опосредованного, должно быть сначала найдено опосредование. Но содержание определения есть вообще определенное и тем самым само по существу опосредованное; содержание имеет лишь некоторую субъективную непосредственность, т. е. субъект совершает произвольное начало и сообщает предмету значение предположения. А поскольку предмет конкретен внутри себя и должен быть также разделен, то получается множество определений, по своей природе опосредованных и признаваемых за непосредственные и недоказываемые не по принципу, а лишь по субъективному решению. И у Евклида, который искони справедливо признан мастером в этом синтетическом виде познания, под названием аксиомы встречается некоторое предположение о параллельных линиях, которое считалось требующим доказательства, и недостаточность которого пробовали различными способами восполнять. Во многих других теоремах думали находить предположения, которые должны быть не признаваемыми непосредственно, а доказываемыми. Что касается той аксиомы о параллельных линиях, то по этому поводу можно заметить, что именно тут Евклид обнаруживает правильное понимание дела, точно оценив и элемент и природу своей науки; доказательство этой аксиомы должно бы было быть ведено из понятия параллельных линий; но такое доказательство столь же мало относится на долю своей науки, как и вывод ее определений, аксиом и вообще ее предмета, самого пространства и его ближайших определений, измерений; ибо такой вывод может быть сделан только из понятия; а так как последнее лежит вне своеобразия евклидовой науки, то это для нее есть необходимо предположение, т. е. относительно первое.
Аксиомы, – чтобы упомянуть о них по этому поводу, – принадлежат к тому же классу. Неправильно считают их обычно за абсолютно первое, не требующее в себе и для себя никакого доказательства. Если бы так было в действительности, то они были бы просто тожесловиями, так как лишь в отвлеченном тожестве нет никакого различия, стало быть для него не требуется никакого опосредования. Если же аксиомы суть нечто большее, чем тожесловия, то они суть предложения из какой-либо другой науки, так как для той науки, которой они служат аксиомами, они должны быть предположениями. Поэтому они суть собственно теоремы и притом по большей части относящиеся к логике. Аксиомы геометрии суть также леммы, логические предложения, которые впрочем потому приближаются к тожесловиям, что они касаются лишь величин, и поэтому качественные различения в них упразднены; о главной аксиоме, о чисто количественном умозаключении, была речь уже выше. Поэтому аксиомы так же, как определения и разделения, рассматриваемые в себе и для себя, требуют некоторого доказательства и лишь потому не превращаются в теоремы, что, как относительно первые, для известной точки зрения признаются предположениями.
По поводу содержания теорем следует сделать то ближайшее различение, что так как оно состоит в некотором отношении определенностей реальности понятия, то эти отношения могут быть как более или менее неполными и единичными отношениями предмета, так и таким отношением, которое охватывает все содержание реальности и выражает собою его определенное отношение. Но единство полных определенностей содержания тожественно понятию; содержащее его предложение есть само поэтому опять-таки определение, которое однако выражает собою не только непосредственно усвоенное, но и развитое в его определенных, реальных различениях понятие или полное существование последнего. То и другое вместе представляет собою идею.
При ближайшем сравнении теорем какой-либо синтетической науки, и именно геометрии, получается то различение, что некоторые из ее теорем содержат в себе лишь единичные отношения предмета; другие же – такие отношения, в коих выражается полная определенность предмета. Очень поверхностен тот взгляд, по которому все эти предложения считаются равноценными на том основании, что каждое вообще содержит в себе некоторую истину и в формальном ходе изложения, в связи доказательства, равно существенно. Различение содержания теорем само теснейшим образом связано с этим ходом; некоторые дальнейшие замечания о них послужат к тому, чтобы ближе осветить как это различение, так и природу синтетического познания. Прежде всего уже искони прославляется порядок расположения теорем в евклидовой геометрии, которая должна служить представительницею синтетического метода, представляющая самый совершенный его образец; в ней каждой теореме всегда предпосылаются, как ранее доказанные, те предложения, которые требуются для построения и доказательства этой теоремы. Но это обстоятельство касается формальной последовательности; как ни важна последняя, оно все же касается более внешнего расположения и сама по себе не имеет отношения к существенному различению понятия и идеи, в коем заключается более высокий принцип необходимого движения вперед. А именно определения, с которых начинают, берут чувственный предмет, как непосредственно данный, и определяют его по его ближайшему роду и видовой особенности, которые также суть простые непосредственные определенности понятия, общность и частность, отношение коих далее не развивается. Теоремы, служащие началом, сами по себе и не могут опираться ни на что иное, кроме таких непосредственных данных, какие заключаются в определениях; равным образом их взаимная зависимость ближайшим образом может состоять лишь в том общем, что одна вообще определена другою. Таким образом первые предложения Евклида о треугольниках касаются лишь совпадения, т. е. вопроса о том, сколько частей какого бы то ни было треугольника должно быть определено, чтобы вообще были определены прочие части одного и того же треугольника или иначе весь треугольник. Что два треугольника сравниваются один с другим, и совпадение полагается в покрытии одного другим, – это окольный путь, которого требует метод, долженствующий пользоваться чувственным покрытием вместо мысли: определенность. Независимо сего, рассматриваемые для себя, эти теоремы содержат сами две части, из коих одна должна считаться понятием, а другая – реальностью, восполняющею первую в реальность. А именно полное определение, напр., две стороны и заключенный между ними угол, есть уже для рассудка целый треугольник; оно ни в чем не нуждается далее для полной определенности треугольника; прочие два угла и третья сторона есть избыток реальности над определенностью понятия. Поэтому последствие этих теорем состоит собственно в том, что они сводят чувственный треугольник, требующий во всяком случае трех сторон и трех углов, к его простейшим условиям; определение (definitio) вообще упоминает лишь о трех линиях, замыкающих плоскую фигуру и образующих из нее треугольник; и эта теорема содержит в себе выражение определенности углов в силу определенности сторон, прочие же теоремы – зависимость остальных трех частей от упомянутых трех частей. Но полная определенность величины треугольника по его сторонам содержит внутри себя самой пифагорову теорему; лишь последняя есть уравнение сторон треугольника, так как рассмотрение двух вышеуказанных сторон треугольника приводит за собою вообще только взаимную определенность его сторон, а не какое-либо уравнение. Поэтому пифагорова теорема есть полное реальное определение треугольника, именно ближайшим образом прямоугольного, простейшего в своих различениях и потому наиболее правильного. Евклид заканчивает этою теоремою первую книгу, так как она (теорема) есть действительно достигнутая полная определенность. Так же точно после того, как он перед тем сводит непрямоугольные треугольники, коим присущая бóльшая неправильность, к равномерным, прямоугольным, он заканчивает вторую книгу сведением прямоугольника к квадрату, – уравнением между саморавным, квадратом, и несаморавным, прямоугольником; таким же образом гипотенуза, соответствующая прямому углу, саморавному, составляет в пифагоровой теореме одну часть уравнения, а два катета, несаморавное, – другую. Сказанное уравнение между квадратом и прямоугольником ложится в основание второго определения круга, – которое опять-таки есть пифагорова теорема, поскольку катеты принимаются за переменные величины; первое уравнение круга находится в том же отношении чувственной определенности к уравнению, в каком вообще находятся между собою два различных определения конического сечения.
Это поистине синтетическое движение вперед есть переход от общего к единичности, именно к определенному в себе и для себя или к единству предмета внутри себя самого, поскольку предмет в своих существенных реальных определенностях выходит из себя и различается. Но вполне несовершенное, обычное движение в других науках допускается тогда, когда началом, правда, служит общее, но переход от него к единичному и конкретному есть лишь приложение общего к привходящему откуда-то извне материалу; собственное единичное идеи есть таким образом некоторая эмпирическая прибавка.
Но какое бы, несовершенное или совершенное, содержание ни имела теорема, она должна быть доказана. Она есть отношение реальных определений, не обладающих отношением определений понятий; если они и имеют последние (определения), как может быть указано относительно предложений, которые мы назвали вторыми или реальными определениями, то последние именно потому суть с одной стороны те определения, которые именуются definitiones; но так как их содержание вместе с тем состоит из отношений реальных определений, а не просто из отношений некоторого общего и простой определенности, то они по сравнению с первым таким definitio также требуют доказательства и допускают его. Как реальные определения, они имеют форму существующих безразлично и различных; поэтому они не суть непосредственно одно; надлежит вследствие того указать их опосредование. Непосредственное единство в первом определении есть то, в силу которого частное включается в общее.
2. Опосредование, которое должно теперь быть рассмотрено ближе, может быть или простым, или проходить через многие опосредования. Опосредывающие члены связаны с опосредываемыми; но так как то, из чего вытекают в этом познании опосредование и теорема, и чему вообще чужд переход в противоположное, не есть понятие, то опосредывающия определения, без понятия связи, должны быть заимствованы откуда-то извне, как предварительный материал для остова доказательства. Эта подготовка есть построение.
Из числа отношений содержания теоремы, которые могут быть весьма разнообразны, должны быть выбраны и сделаны наглядными те, которые служат понятию. Этот выбор материала имеет свой смысл лишь при такой цели; сам по себе он является слепым и лишенным понятия. За сим при доказательстве, правда, усматривается, что целесообразно провести в геометрической фигуре такую наприм. прибавочную линию, какая дана в построении, но само последнее должно быть выполняемо слепо; поэтому для себя это действие чуждо рассудка, так как руководящая им цель еще не высказана. Безразлично, предпринимается ли оно ради теоремы в собственном смысле этого слова или ради задачи; каким оно является ближайшим образом до доказательства, оно не есть нечто, выводимое из данных в теореме или задаче определений, и потому есть бессмысленное действие для того, кто еще не знает его цели; оно есть всегда нечто руководимое только некоторою внешнею целью.
Это первоначально скрытое проявляется в доказательстве. Последнее, как указано, содержит в себе опосредование того, что связно высказывается в теореме; лишь через это опосредование сказанная связь является необходимою. Как построение для себя лишено субъективности понятия, так доказательство есть некоторое субъективное действие без объективности. А именно так как определения содержания теоремы положены вместе с тем, не как определения понятия, а как данные безразличные части, состоящие в разнообразных внешних взаимных отношениях, то необходимость присуща лишь формальному, внешнему понятию. Доказательство не есть некоторый генезис отношения, составляющего содержание теоремы; его необходимость существует лишь для нашего разумения, а все доказательство – для субъективной надобности познания. Доказательство есть поэтому вообще некоторая внешняя рефлексия, идущая извне внутрь, т. е. заключающая от внешних обстоятельств к внутреннему составу отношения. Обстоятельства, изображенные построением, суть следствия природы предмета; здесь же они наоборот обращаются в основание и в опосредывающие отношения. Средний термин, третье, чем связанное в теореме представляется в своем единстве, и что составляет нерв доказательства, поэтому лишь таково, что в нем эта связь является и оказывается внешнею. Так как следствие, проистекающее из этого доказательства, есть скорее обратное природе вещи, то то, что в доказательство принимается за основание, есть субъективное основание, из которого природа вещи проистекает только для познания.
Из сказанного явствует необходимая граница этого познания, часто понимаемая неправильно. Блестящий пример синтетического метода есть наука геометрии, – но несоответственным образом он применяется и к другим наукам, даже к философии. Геометрия есть наука о величинах, и потому для нее всего пригоднее формальное умозаключение; так как в ней рассматривается только количественное определение, и отвлекается от качественного, то она может держаться в границах формального тожества, чуждого понятию единства, которое есть равенство и принадлежит внешней отвлекающей рефлексии. Ее предмет, пространственные определения, уже настолько отвлеченен, что подготовлен для цели – иметь вполне конечную, внешнюю определенность. Вследствие отвлеченности ее предмета этой науке с одной стороны свойственна та возвышенность, в силу которой в этом пустом безмолвном пространстве погасает цвет, а также исчезают и другие чувственные свойства, а равно смолкает и всякий иной интерес, связанный с живою индивидуальностью. С другой стороны, этот отвлеченный предмет все же есть еще пространство, – нечто нечувственно чувственное; воззрение возвышается в своей отвлеченности, пространство есть некоторая форма воззрения, но само воззрение, – еще чувственное, внеположность самой чувственности, ее чистое отсутствие понятия. В последнее время достаточно говорили о превосходстве геометрии в этом отношении; то обстоятельство, что в ее основании лежит чувственное воззрение, объявляли ее высшим преимуществом и полагали даже, что ее высокая научность основывается именно на этом, и что ее доказательства покоятся на воззрении. Против этой плоскости необходимо прибегнуть к столь же плоскому напоминанию, что всякая наука осуществляется не через воззрение, а только через мышление. Только наглядность, свойственная геометрии в силу остающегося еще в ней чувственного материала, сообщает ей ту сторону очевидности, которую вообще имеет чувственное для немыслящего духа. Заслуживает порицания поэтому, что эту чувственность материала, которая знаменует собою скорее низменность точки зрения геометрии, считают ее преимуществом. Лишь отвлеченности ее чувственного предмета обязана она своею способностью к более высокой научности и большим преимуществом перед теми собраниями сведений, которые также склонны называть науками, и которые имеют своим содержанием конкретное, ощутимое чувственное, и лишь путем порядка, который они пытаются туда внести, обнаруживают отдаленное чаяние требований понятия и намек на них.
Лишь вследствие того, что геометрическое пространство есть отвлеченность и пустота внебытия, становится возможным такое начертание фигур в его неопределенности, что их определения остаются одни вне других в устойчивом покое и не имеют никакого перехода в свою противоположность. Эта наука есть тем самым наука конечного, которое сравнивается по величине, и единство которого есть внешнее, равенство. Но так как при этом начертании фигур вместе с тем исходят от различных сторон и принципов, и различные фигуры возникают для себя, то при их сравнении обнаруживается также качественное неравенство и несоизмеримость. Ими геометрия выводится из конечности, в которой она движется столь правильно и уверенно, в бесконечность, к приравнению того, что качественно различно. Здесь прекращается ее очевидность, так как в основе ее вообще лежит устойчивая конечность, и ее нечего делать с понятием и его явлением, сказанным переходом. Конечная наука достигает здесь своей границы, так как необходимость и опосредование синтетического основываются тут уже не только на положительном, но и на отрицательном тожестве.
Если геометрия, как и алгебра, скоро останавливается при своих отвлеченных, чисто рассудочных предметах у своей границы, то в других науках синтетический метод уже с самого начала обнаруживает себя недостаточным, всего же недостаточнее он в философии. Относительно определения и разделения это уже обнаружено; здесь следовало бы говорить только о теоремах и доказательствах, но независимо от того, что само доказательство уже требует определений и разделений и предполагает их, самое положение их относительно теорем вообще неудовлетворительно. Это положение особенно достопримечательно в опытных науках, напр., в физике, если им хотят придать форму синтетических наук. Этот прием состоит в том, что рефлексивные определения отдельных сил или иных внутренних и существенных форм, которые вытекают из способа анализировать опыт, и которые могут быть оправданы, лишь как результаты, ставятся во главе, дабы образовать собою общие основы, затем применяемые к единичному и обнаруживаемые в нем. Так как эти общие основы не имеют для себя никакой опоры, то их приходится принимать пока произвольно; но лишь при выводе из них следствий замечают, что последние составляют настоящее основание этих основ. Так называемое объяснение и доказательство содержащегося в теоремах конкретного оказывается отчасти тожесловием, отчасти искажением истинного отношения; отчасти же это искажение приводило к тому, чтобы прикрыть заблуждение познания, односторонне понимавшего опыт, единственно из которого оно могло почерпнуть свои простые определения и основоположения, и тем самым устранить основанное на опыте опровержение, обнаружив, что оно в данном случае принимало и оценяло опыт не в его конкретной полноте, а лишь как пример и притом с его благоприятной для гипотез и теорий стороны. В этом подчинении конкретного опыта предположенным определениям основа теории затемняется и показывается лишь со стороны, подтверждающей теорию; равно, как вообще тем самым становится крайне затруднительным рассматривать конкретные восприятия беспристрастно для себя. Лишь сделав совершенно обратным весь ход познания, мы сообщаем целому правильное отношение, при коем можно обозреть связь основания и следствия и правильность преобразования восприятия в мысли. Одна из главных трудностей при изучении таких наук состоит поэтому в том, чтобы проникнуть в них; этого можно достигнуть лишь путем слепого принятия предположений и запечатления в памяти без возможности образования некоторого понятия, часто даже едва ли определенного представления, по большей же мере смутного образа фантазии, определений признаваемых сил, материй и их гипотетических фигур, направлений и вращений. Если же потребовать для принятия и оценки гипотез выяснения из необходимости и понятия, то оказывается невозможным двигаться далее начала.
О неправильности приложения синтетического метода к строго аналитическим наукам был уже повод говорить выше. Вольф распространил это приложение на всевозможные роды знаний, отнесенных им к философии и математике, – знаний, которые отчасти имеют совершенно аналитическую природу, отчасти же носят характер совершенно случайный и чисто ремесленный. Контраст между таким легко усвояемым, по природе своей неспособным ни к какой строгой и научной обработке материалом и натянутыми научными изворотами по поводу его и его внешнею оболочкою уже сам по себе показал нескладность такого приложения и лишил последнее кредита[9]. Но веры в пригодность и существенность этого метода для придания научной строгости философии это злоупотребление им не могло уничтожить; пример изложения Спинозою его философии еще долго выдавался за образец. Однако в действительности Кант и Якоби опровергли весь способ действия прежней метафизики, а с тем вместе и ее метод. Кант по-своему показал относительно содержания этой метафизики, что через строгое доказательство оно приводит к антиномиям, характер которых был впрочем разъяснен в соответствующем месте; но о самой природе этого доказательства, которое связано с некоторым конечным содержанием, он не рефлектировал; между тем одно должно падать вместе с другим. В своих Начальных основаниях естествознания он сам дал пример обработки некоторой науки, которую он таким путем думал сделать философскою, как науку рефлексии и по ее методу. Если Кант нападал на прежнюю метафизику более с точки зрения ее содержания, то Якоби производил это нападение преимущественно со стороны способа ее доказательств; он самым ясным и глубоким образом выделил пункт, в коем вся суть дела, а именно, что такой метод доказательства связан совершенно с кругом оцепенелой неподвижности конечного, свобода же, т. е. понятие, и тем самым все, что истинно, лежит вне его и для него недостижимо. По выводу Канта своеобразное содержание метафизики приводит к противоречиям, и недостаточность этого познания состоит в его субъективности, по выводу же Якоби метод и вся природа самого этого познания имеют дело лишь со связью условности и зависимости и потому оказываются несоответствующими тому, что есть в себе и для себя и абсолютно истинно. Действительно, так как принцип философии есть бесконечное свободное понятие, и все ее содержание покоится единственно на этом понятии, то к нему неприменим метод чуждой понятию конечности. Синтез и опосредование этого метода приводят только к противоположной свободе необходимости, именно к некоторому тожеству зависимого, которое лишь в себе, все равно, понимается ли оно, как внутреннее или как внешнее, и в котором то, что составляет его реальность, различенное и осуществленное, остается только самостоятельно различным и потому конечным. Таким образом, самое это тожество тут не осуществляется и остается лишь внутренним или иначе лишь внешним, так как его определенное содержание ему дано; с обеих точек зрения оно есть нечто отвлеченное и имеет реальную сторону не в нем самом, а потому не положено, как в себе и для себя определенное тожество; понятие, в котором единственно вся суть дела, и которое есть бесконечное в себе и для себя, исключено тем самым из этого познания.
Таким образом в синтетическом познании идея достигает своей цели лишь в той мере, в какой понятие по своим моментам тожества и по реальным определениям или иначе по общности и частным различениям, – далее также как тожество, которое есть связь и зависимость различного – становится для понятия. Но этот его предмет ему не соответствует, ибо понятие не становится единством себя с самим собою в своем предмете или в своей реальности; в необходимости состоит его тожество для него, но в этом тожестве заключается не сама определенность, а некоторый внешний ей, т. е. не понятием определяемый материал, в коем понятие не познает само себя. Таким образом понятие вообще определено не для себя и не в себе и для себя вместе в своем единстве. Поэтому идея не достигает еще в этом познании истины вследствие несоответствия предмета субъективному понятию. Но сфера необходимости есть высшее обострение бытия и рефлексии; она сама в себе и для себя переходит в свободу понятия, внутреннее тожество переходит в свое обнаружение, которое есть понятие, как понятие. Как совершается этот переход из сферы необходимости в понятие в себе, было указано при рассмотрении сказанной сферы, равно как он был изображен, как генезис понятия, в начале этой книги. Здесь необходимость занимает такое положение, при коем она есть реальность или предмет понятия, равно как и понятие, в которое оно переходит, есть теперь предмет понятия. Но самый переход остается тем же. Он и здесь есть понятие в себе и лежит еще вне познания в нашей рефлексии, т. е. есть еще ее внутренняя необходимость. Лишь результат есть для него. Идея, поскольку понятие теперь определено, как в себе и для себя, для себя есть практическая идея, действие.







