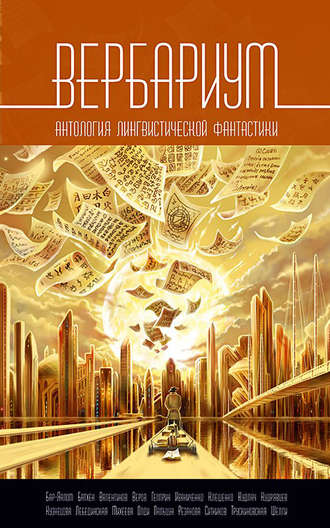
Майк Гелприн
Вербариум
2. Жареный глагол
Юная рифмовица задумчиво смотрела в окно на пушистые зелёные облака и квадратное солнце. Рядом на литературной сковородке недовольно шипели глаголы.
– Манка! – вскрикнула Типа-Строгая-Начальница. – Опять мечтаешь? Снова глаголы сожгла!
– Манка жжёт! – вставила подхалимка-секретарь.
Рифмовица встрепенулась, убрала сковородку с огня, замахала над ней крылышками. Глаголы радостно бросились врассыпную.
– Я это… – сказала Манка.
– Влюбилась она, – важно сообщила подхалимка. – И хоть бы в кого хорошего! В нетрадиционного стихоплёта нашего, коего все порядочные девушки десятой дорогой обходят. И взгляните-ка на Манку. Она уже сама скоро на нетрадиционное письмо перейдёт. А кавалера её высокое начальство к сковородке и на полвзмаха не подпускает. Его вообще к честным крылатам допускать нельзя. Посмотрите – уже облака позеленели от его стихов. Тьфу.
– А ты не сплетничай, – сказала Типа-Строгая и повернулась к Манке. – А ты иди глаголы собирай.
Глагол забился в щель и тщательно зализывал раны с ожогами. Нетрадиционные личности – это, конечно, прекрасно. В смысле, не пресно и не прилизано до тошноты. Но, с другой стороны, от этих личностей никогда не знаешь, чего ожидать. Такие они со всех сторон… нетрадиционно-загадочные. Глагол и не стал ждать. Зализав последний ожог, протиснулся глубже в щель и выпал в Большой Мир. Не строчкой выпал, не рифмой, а самим собой – глаголом гордым, независимым и слегка поджаренным.
Глагол шёл по городу. И всё-то в нём было не так – трава не зелёная, пыльная, машины носятся, визжат тормозами, люди суетятся, бегут, постоянно куда-то опаздывая. Но при этом никто не действует. Вроде и движения – бери-не-хочу, а действия – нет. Странный мир. Хоть и Большой.
Глагол подошёл к скамейке, на которой уютно устроилась парочка молодых людей.
– Знаешь, Вита, – неуверенно мямлил парнишка, – я давно хочу сказать. Ты очень мне… мнэ-э-э… С тех пор, как мы… э-э-э… ы-ы-ы… Ох! Мне просто слов не хватает, чтобы описать всё, что я чувствую.
Рядом топтались слова, словосочетания и даже одна стихотворная строчка. Нас не хватает? Да как же? Вот же мы! Здесь! К вашим услугам! Берите, пользуйтесь, на здоровье, мы не жадные, нас на всех хватит.
«шаг за шагом»
«в темноту»
«шея, губы, чёлка»
«люблю»
«хочу!»
«на улице разборка»
«её глаза на звёзды не похожи…»
«ещё и как»
«похожи!»
«ночной прохожий»
«ужин»
«…вдвоём!»
«луна и мартини»
«игра Паганини»
«в четыре руки»
«посмотри!»
«ох, глупое сердце моё»
«гори!»
Глагол сочувственно смотрел на товарищей.
– Не замечают?
Товарищи сокрушённо вздохнули. И затараторили наперебой.
– Не-а. Вообще нас ни во что не ставят. Говорят – слова не главное.
– На себя бы посмотрели!
– Да! Взгляни на этого Ромео. В драку за незнакомую девушку не побоялся броситься, а как до признания в любви дошло – двух нас связать не может.
– Так вы бы, того, сами связались.
– Нельзя. Если человек к тебе обратился – ты к его услугам, а самим – нельзя. Здесь тебе не Крылатия, забыл? Хотя, – товарищи смерили глагол подозрительным взглядом, – странный ты какой-то. Откуда ты вообще взялся?
Глагол не ответил. Прошёлся вокруг парочки. Юноша всё ещё мямлил, девушка начинала скучать. Прийти на выручку кавалеру и помочь ему связать хотя бы пару слов она даже не пыталась. Хотя и хотела. Эх, люди.
Глагол подпрыгнул, завис на секунду в воздухе и устремился прямо на девицу.
Раз…
– Ну в общем, это… Я тут много чего наговорил… (ничего ты не сказал, балбес.)
Два…
– Не обращай внимания. Я когда выпью… Забудь, в общем. (поздно, юноша!)
Три!
– ДЕЙСТВУЙ!
Юноша замолк на полуслове. Уставился на подругу. Та испуганно моргала, словно не веря своим же словам. Вернее – слову. Кавалер не стал ждать, пока она скажет ещё что-то. Схватил за руки и впервые за их знакомство поцеловал. Девушка не возражала.
Глагол спрыгнул на землю и, насвистывая, продолжил путь.
– Эй! – крикнули ему вслед. – Да ты отчаянное словечко!
– Нет. Просто жареное, – ответил глагол, не оборачиваясь.
Виктор был лучшим другом. Нет, больше, чем другом. Он ведь его, Павла Егорова, из долговой ямы вытащил, встать на ноги помог. Потому и ехал сейчас Павел, забросив все дела, на день рождения к другу. В другой город. Подарок дорогой вёз – «ролекс» настоящий. Полгода на него копил.
Единственное, о чём жалел Паша всё это время, – что никак не представится случай отблагодарить Виктора. Нет, не то чтобы он желал другу влипнуть в неприятности, но… хочется же благодарность проявить! А повода нет.
А друг возьмёт и решит, что он вообще на неё неспособен. На благодарность-то.
Когда герою нашему – глаголу жареному – попался на глаза Павел Егоров, тот сидел в ресторане, на дне рождения благодетеля Виктора, потягивал мартини и представлял, как вытащит друга из горящего дома. Или – из ледяной проруби. Или – из лесу тёмного жуткой зимой.
Друг бы всплакнул и сказал, что теперь он у Паши в долгу, а Паша в ответ: «Не стоит. Ты ж для меня…»
«света луч»
«когда»
«лишь глухота»
«вокруг»
«наплевать на тебя»
«спасение»
«чьих дело рук?»
«даёшь развлечение!»
«не дашь?»
«скучно»
«грустно»
«тони»
«когда доплывёшь»
«звони»
«только ты»
«в холодную воду»
«чужие долги»
«ада круги»
«друга шаги»
«один, лишь один…»
Слова струились водопадом, но оставались незамеченными. Паше не хотелось слов. Ему хотелось подвигов.
А друг тем временем рассуждал о том, как он мечтает начать новое дело – прибыльное, но рискованное. Требует оно больших капиталовложений, но может и не выгореть. Однако если выгорит… Паша слушал вполуха. Он не богат, бизнес-хватки отродясь не имел, а потому в этом деле другу не помощник. А жаль.
Прощались в аэропорту. Все слова отстали, рассыпались по дороге бисеринками, лишь одна частица симпатичная, белая и пушистая, настойчиво трусила за друзьями в надежде, что её всё же заметят.
И глагол жареный не отставал. Интересно же, чем закончится?
Частица взирала на него с тоской.
Эх, была не была, подумал глагол, хватая пушистую страдалицу на руки. Прыжок и…
– Спасибо!
– Что? – Виктор удивлённо смотрел на друга. Они стояли у пропускного пункта, Павел уже попрощался и вдруг обернулся, даже в лице как-то изменился. – За что «спасибо»?
– За то, что тогда меня выручил, помнишь? – и Паша заговорил.
О том, как он вляпался по самые помидоры, а от него все отвернулись, и он уже почти разуверился в людях, как вдруг Виктор пришёл ему на помощь. Единственный, кто пришёл.
– Э… – Виктор казался растерянным. – Да полно тебе. Давно это было.
– Не так и давно. А я ведь и не поблагодарил тебя толком. Всё удобного случая ждал.
– Да полно…
– И знаешь что ещё. По поводу того, что ты в ресторане говорил. ДЕЙСТВУЙ!
Виктор улыбнулся.
– А вот за это – тебе спасибо.
Самолёт взлетел, Виктор уехал домой. Оба друга чувствовали себя так, будто совершили только что нечто важное. И, пожалуй, так оно и было.
В аэропорту отряхивалась довольная частица.
– Это против правил, – сказала она, притворно топорща белую шёрстку.
– Мне-то что? – ответил глагол. – Я ведь – жареный.
– Олеся, Олеся, как что сразу – Олеся. После работы надо задержаться, отчёты перепроверить, к кому бегут – к Олесе! Подменить коллегу нужно – к Олесе. Срочно прикрыть от налоговой – Олеся. А что Олеся взамен имеет? Фигу пахучую с маком, вот что!
Олеся металась по офису. Вот уже который раз она пыталась завести разговор о повышении зарплаты, но шефиня в который раз умело от разговора уходила.
Перед встречей с Олесей глагол наш успел уже заскучать, а потому, завидя незадачливую бухгалтершу, искренне обрадовался и, не долго думая, ринулся в бой. Начальница Олеси как раз вышла из своего кабинета, когда глагол устремился в полёт.
– Ты что-то хотела? – Шефиня останавливается, смотрит на Олесю так, будто впервые видит. – Действуй!
И Олеся радостно выплёскивает чашку чая ей в лицо!
«Ну и ладно, – думает глагол, улепётывая из бухгалтерии под душераздирающие женские вопли, – зато хоть душу отвела бухгалтерша».
– ДЕЙСТВУЙ!
И жена высказывает мужу накопленное за долгие годы. После чего выставляет озадаченного супруга в ночь.
– ДЕЙСТВУЙ!
И компания подростков разносит на осколки витрину магазина.
– ДЕЙСТВУЙ!
И мобильный телефон коллеги, сутками напролёт трещащей над ухом, летит в унитаз…
Глагол пребывал в глубочайшем недоумении. Почему-то при призыве действовать большинство людей начинало творить нечто, о чём даже само не мыслило. И вместо того чтобы сказать, попросить, прикрикнуть наконец, устраивало армагеддон в миниатюре. План глагола близился к провалу.
Вот если б можно было…
– Попался! Наконец-то!
Глагол обернулся. Прямо на него летела Манка, та самая поджарившая его рифмовица.
– Я тебя повсюду ищу! Ох и досталось же мне за то, что тебя потеряла! Идём скорее, – она схватила глагол за шиворот и быстро-быстро замахала крылышками.
– Да-а, натворил ты делов, – сказала Манка, когда они вернулись на такую родную рифмо-кухню, и глагол рассказал о своих приключениях.
– Натворил, допустим. А почему, собственно? Люди вялые, как кабачки перезрелые. Пока не пнёшь – не пошевелятся. Но одному мне с ними справиться – сложно. Что я могу им дать, кроме призыва «Действуй!»? А помочь некому. Мало. Мало нас, словечек жареных, – сокрушался глагол.
Манка вздохнула и встала к сковородке.
3. Безглаголие, или О пользе филологов
Полгода спустя собралось в Крылатии великое собрание, дабы решить, что с нажаренными Манкой глаголами делать? Безобразничают глаголы, контролю не поддаются, мир людей в форменный бардак превратили. И взял высокопарную речь верховный крылат:
– От глаголов мочи нету. Днём и ночью нет покоя! Потому – моё вам слово, глаголы нынче под запретом. Глаголам более не быть!
Горько плакала Манка, когда её столь любовно обжаренные глаголы дружным строем отправились за решётку. И необжаренные – туда же. На всякий случай. Лишь горстку избранных оставили – для внутреннего употребления.
И из-за чего сыр-бор, спрашивается? Подумаешь, научились глаголы с людьми по-особому взаимодействовать и к разным действиям сподвигать. Причём способность такую имели именно жареные, и именно глаголы. Другие слова сколько ни копти на сковородке, толку – ноль.
Возмутились они. Беспорядки в мире людей, видите ли. Можно подумать, у этих странных существ без глаголов беспорядков не будет. Эх…
Манка печально смотрела в окно.
* * *
Утро. Море, волны. Яркий диск солнца. Люди – ногами по дороге. Пятками – по песку. Руками – по воде.
– Мороженое! – звонкий детский голос.
– Вчера, – строгий ответ мамы.
– Почему? Сегодня, – недоумённый взгляд ребёнка.
– Вчера – целых два, поэтому сегодня – ни одного.
– Вчера – пломбир. Сегодня – фруктово-о-ое!
– Лучше к морю, ногами. Перед глазами – море. И ракушки в руках.
Елена – в растерянности. Она – преподаватель русского языка и литературы. Обычно – полное понимание с детьми. И с Игорем, собственным сыном, – разумеется, тоже. А сейчас… Дефицит слов какой-то. Недовольный сын быстро-быстро ногами топ-топ. Рука Елены – на руке Игоря. А в голове – кавардак.
Они у самого моря. Следы волн на босоножках. Медузы на песке.
– Я – в воду, руками, – мальчишка уже без майки и почти без шорт.
– Нет. В воду только с папой – вечером. У него – руки в воде.
– Сейчас. Один. Папино слово – можно.
– А моё – нельзя! – Рука ребёнка – из руки матери.
– Я быстро! Папино слово – я хорошо руками!
– А я тебя – по попе. Тоже руками! – У Елены – обескураженность и лёгкий испуг. И странное ощущение, что с миром что-то не так.
Игорь – на волнах вверх-вниз. Голова над водой, голова под водой. Чайка – вяк! Далёкий крик Игоря:
– Мама, я на дно! НА ДНО-О-О!
И голова – под воду.
Сердце – испуганно стук. Её сын – под воду, на дно. Словно камень. Караул! На помощь, кто-нибудь!
Елена бяк-бяк по пляжу.
– Мой сын – в воде, а я – нет! Я руками – не… Я без рук в воде. И без ног. Тьфу! Да что же это? На помощь!
Мужчина – спиной на песке, во взгляде – непонимание. Его рука – прямой указатель за её спину.
– Это ваш сын?
Из воды – Игорь, мокрый, взъерошенный и довольный. В руках – красивая ракушка.
– Со дна! Для тебя! – в голосе радость.
Что-то не так с миром, – снова тревожная мысль.
Вечер. Она с мужем и сыном в парке.
– Хорошо перед сном ногами на природе, правда? – в голосе мужа удовольствие.
Сын – быстро-быстро вслед за белкой. Белка – лапами и хвостом по дубу вверх.
– Правда, – Елене всё ещё неспокойно. – А днём Игорь – внезапно на дно. А у меня – страх и паника.
– Я не на дно, – сын уже рядом. – Я за ракушкой. Красивой. Для мамы.
– Ах, ракушка! Леночка, а почему же страшно?
– Мне показалось, что Игорь – на дно! – отчаяние в голосе.
– Ну да. И я ж об этом. На дно.
– Ай, – внезапная боль, – голова моя!
– Леночка, что с тобой?
– Не со мной. С миром. Неужели только мне кажется… Только мне чувствуется…
– Что кажется, милая? – Ладонь мужа на её лбу. – Что чувствуется?
– Что всё не так… – скамейка. На неё – ягодицы. Я-го-ди-цы-на-ска-мейку. Звучит-то как.
В памяти – её ученики. «Добрый день, дети! Ягодицы – на стулья. Иванов, ягодицы – от стула. К доске – марш!» Тьфу! Неужели она так с детьми?
Разноцветная птица крыльями по воздуху быстро-быстро. Сын в восторге, мать в панике.
– Всё не так, – снова её слова. – Сложно для понимания, для объяснения, но что-то не так. Проклятье. Кто-нибудь. ПРЕКРАТИТЕ это!
* * *
– Глаголы прорываются в мир людей. Из-за решёток выскальзывают. В чём причины и как с этим бороться?
Верховный крылат смотрел на руководителя профсоюза объединённых слов Крылатии. Тот отвечал невозмутимо.
– Причины в том, что не все люди приспособились к безглаголью. Некоторые истинные ценители языка, сами того не ведая, вызывают нарушителей из заточения. Да и не-ценители без глаголов двух существительных связать не могут. У них там сейчас полное непонимание друг друга. Скандалы, обиды и прочие конфузы. Из всех слов в лексиконе людей скоро одни матерные останутся. Мои подопечные отказываются работать в таких условиях.
– Вы считаете, что нужно выпустить жареных нарушителей на волю?
– Я считаю, что, борясь с алкоголизмом, не обязательно вырубать виноградники.
– Откуда это?
– Из мира людей, для которого вы так стараетесь.
Верховный крылат вздохнул и пошёл подписывать новый указ.
4. Божественное прилагательное
И снова возник перед верховным крылатом руководитель Профсоюза Слов. Только не простых слов, а, так сказать, неприличных.
– Глаголы жареные на волю выпустили, а мы, мать вашу, до сих пор под запретом! Людям нас приходится из-под полы выкорябывать! Я уже молчу о том, что мы не впитываемся ни людьми, ни крылатами. А мы, к сведению твоего свиного рыла, очень даже клёвой популярностью пользуемся.
Верховного передёрнуло. А ведь в Крылатии неприличные ещё более или менее мягко звучат. В отличие от мира людей.
– И у кого же, позвольте полюбопытствовать, вы популярностью пользуетесь?
– У недоумков этих. Людей ваших обожаемых. А если не дадите нам свободу, мы бунт поднимем. И на йух всё разнесём. Вот, – руководитель Профсоюза скривился, копируя верховного, – увидеть извольте!
Они подлетели к окну. На площади перед резиденцией верховного стояло трое могучих крылатов с прилизанной коричневой шёрсткой и грозно держали в руках нечто отдалённо напоминающее тот самый «йух». Размером с хорошее бревно. Верховный вздохнул. Сложил крылышки, подошёл к столу. За что ему всё это? Стараешься-стараешься, концы с концами соединяешь – так, чтобы всем хорошо было. И что? Всякий раз новые недовольные обнаруживаются. А люди, для которых столько усилий, и вовсе не замечают твоего существования.
Устал верховный, очень устал.
– Знаете что, любезный, – повернулся он к руководителю неприличных, – идите-ка вы все на йух. В смысле, к людям, раз уж они вас так приветствуют. Только совсем идите. В Крылатии чтобы и духу вашего не было больше!
– То есть с полной развиртуализацией здесь и материализацией там. Клёво! А печать первенства нам втулите? – ехидно поинтересовался руководитель.
– Первенства – не дам. Пожалею людей, пожалуй. А вот печать равноправия – на здоровье. И пусть сами выбирают, какой лексикой пользоваться.
Не сразу отдуплились словечки неприличные, что нет у них больше крыльев. Да и вообще, интерфейс сменить нафиг пришлось. Очеловечиться, тксказать. Зато люди их приняли с распростёртыми объятьями. Полный: лол: получился.
Идёт человечек по улице, а рядом с ним – Хрен Кабысдоший – огромный такой детина, заросший, глазами зыркает. Стоит кому-то человечку не угодить, он его тут же к Хрену Кабысдошьему и посылает. И попробуй только не пойти – не получится. Хрен-то рядом стоит. Ухмыляется.
А уж сколько кайфа всяким сочинителям от такого симбиоза. Что вижу, то и творю, а пипл радостно хавает. А кто не хавает – того к Кабысдошьему. Или ещё к кому – повыше да позакрученней.
Впрочем, не все хавали. И не все творили что ни попадя. Жил, например, на свете писатель – талантливый, несмотря на то, что юный. И отчаянно он всякому неприличию сопротивлялся. Хотя и не всегда успешно.
– Что за бесстыдство нафиг такое? – гневно вопрошал юноша у мироздания. – Хочется искусства и благолепия, а лезет непотребство со всех дыр. Вместо вдохновения – сплошная матерщина. Где ты, прекрасное звучное слово? То ли дело классики писали: «Люблю грозу в начале мая – когда херачит первый гром». Ой, кажется, у классика иначе было. Где ты, где ты красивое хлёсткое слово? С тех пор как эти «неприличные» на нас неизвестно откуда свалились – пардон, возникли из параллелья и обрели физическую форму, ни строчки нормальной не пишется. В мыслях зарождаются изящные фразы, на бумагу выливается чёрте-что.
Писатель вздохнул. Была у него, кроме канувшего в Лету таланта, ещё одна печаль. Снится уже которую ночь очаровательное хрупкое существо – девушка с золотистыми волосами, стройная, соблазнительная, и светится вся, словно сказочная эльфийка. Аж просыпаться не хочется. И неудивительно! Днём на улицу выйдешь – сплошные гоблинши с Кабысдохами за плечами. И где её искать – незнакомку из сна?
В печальных раздумьях пришёл писатель к озеру – одному из немногих мест в городе, где можно от неприличия отдохнуть. Не любят пришельцы чистых природных уголков. Пугают они их до дрожи в каждом члене.
Одним словом присел писатель на зелёном склоне, погрузился в тяжёлые мысли… И вдруг что-то сверкнуло у берега. Присмотрелся герой наш и глазам не поверил. У самой воды сидела она – стройная, соблазнительная и даже светящаяся.
– Ты кто? – спросил он у существа-из-сна.
– Я? – Девушка тряхнула длинными золотистыми волосами. – Я – Божественная.
– И скромная, – хмыкнул писатель.
– Прилагательное я. Божественная. Отзываюсь также на Восхитительную, Очаровательную, Светлейшую, Обворожительную, Прелестную, Обаятельную, Чарующую, – она вздохнула. – Мои сёстры со мной частичкой себя поделились.
– Хм. Надо же. А я думал, только эти умеют материализовываться…
– Вообще-то, да. Чтобы проявиться у вас, я из своего мира исчезла насовсем. А здесь так неуютно и холодно.
– А зачем же ты к нам пожаловала?
– Разве не ты меня звал? Жаловался, что из-за «неприличных» всё вдохновение пропало.
– Не то чтобы звал… Но… В общем, да, я это был. Я! А ты, – он подошёл, осторожно взял её за руки, – ты не уйдёшь?
– Так некуда мне уходить, – она печально опустила голову.
– Отлично! Ну, теперь мы им зас… Мы им покажем! А жить у меня будешь. Вот они у нас запляшут. Пока существуют такие Божественные, нам никакие хренотени не страшны!
Много чего пришлось пережить писателю и его прилагательному. Не очень-то обрадовались неприличные, ставшие в мире людей уже почти хозяевами, такой гостье. Несильно-то хавал пипл творения писателя – без ругательств да похабщины, неформат-с, однако. Но не сдавались наши герои. Днём и ночью светила Божественная своему писателю. Днём и ночью творил писатель, неся вдохновение в массы. И постепенно, понемножку начало отступать злобное и похабное.
Говорят, спустя время у писателя и его Божественной даже дети родились. После пышной свадьбы, разумеется. Но это уже совсем другая история…
Имя
Ника Батхен
Имена не выбирают
Рассказ
…Пегая коротконогая корова с отвислым выменем уже лежала. Бурая тощая ещё держалась на ногах – тяжело ворочая лобастой башкой, она пробовала дотянуться языком до кровоточащих язв на боках. Где-то за стенкой плакал телёнок.
– Вчера ещё были здоровы, – угрюмо сказал Первый-Сноп, староста Речицы и самый справный мужик в деревне.
– У меня три свиньи в язвах и у тёлок прыщи по шкуре пошли, – поддакнул Лисий-Хвост и запустил пальцы в клочкастую рыжую бороду. – У Того-Кто-Спит овцы хворают, у Волчьей-Мамы бык ослеп – забивать пришлось.
– К шептухе ходили? – для порядку спросил Первый-Сноп – и так было ясно, что бегали и не раз.
– Ходили, как же не ходить – настой змей-травы дала, хлевы чистить велела чаще, хворую скотину наособицу от здоровой водить – так они ж поутру все здоровые все в одном стаде были… – запричитала вполголоса толстая Прялка-Прялка, хозяйка недужных коров.
– Того и гляди, хвороба на людей перекинется, – Первый-Сноп с отвращением почесал комариный укус на предплечье, – решать надо, сход собирать.
Лисий-Хвост обречённо вздохнул:
– И без схода всё ясно. На поклон пора до красноглазого – без него нам никак не сдюжить.
Первый-Сноп сплюнул в истоптанную солому – волшебников в Речицу не заходило последние три зимы, и никто об этом не плакал. По обычаю красноглазые являлись на зов общины и помогали сдюжить с напастями – от засухи до морового поветрия. По обычаю же в благодарность (а впрочем, и просто так) они имели право на любой срок остановиться в любом доме и забрать у общины всё, что приглянется, – от расшитого рушника или курицы до коня, сохи, безымянного малыша или отрока, ощутившего в себе Дар. Последнее было особенно дурно. Имя волшебника было ключом к власти над ним. Любой, кто знал детское имя волшебника, мог причинить ему вред – сам или выдав тайну другому красноглазому. Поэтому, войдя в силу и выучив те заклинания, из-за которых белки глаз навеки наливаются кровью, волшебники обычно возвращались к родным очагам и вырезали под корень всех, кто мог знать их имя, – родителей, братьев, товарищей по играм, а то и село или квартал целиком. Лишний раз звать красноглазых значило приманить беду – обращались к ним только в крайних случаях. Но сейчас, похоже, был край…
– Пошли, сосед! – Первый-Сноп погрозил кулаком наладившейся было выть Прялке-Прялке и пинком отворил дверь хлева.
Позеленевший от времени медный колокол висел между двух могучих, в рост человека столбов, как положено, посереди Сходной площади. Первый-Сноп нагнулся, кряхтя, подлез под тёмный купол и дёрнул колокол за язык. Медь тяжело загудела.
– Взываю, – голос плохо слушался старосту, он откашлялся и начал снова. – Взываю к защите Мудрых, ищу покровительства Сильных, припадаю к стопам Могучих, во имя клятвы, связавшей Цветок-Укропа и Меднорукого, прошу помощи мирным людям из Речицы.
Староста сглотнул и закончил совсем не величаво:
– Скотий мор у нас, бурёнки-кормилицы мрут, овцы, свиньи. Уж подсобите, добрые господа…
Колокол гулко бухнул. У Первого-Снопа заложило уши. Услышано. Главное, чтобы хоть один из красноглазых шлялся поблизости – запоздай помощь хоть на неделю, и спасать по хлевам будет некого.
Лисий-Хвост всё топтался неподалёку:
– Пойдём, что ли… это… за помин души опрокинем. По кружечке хоть – у меня на златоцвете настояна.
Первый-Сноп согласился нехотя – до выпивки он был не большой любитель, но в деревне на непьющих косились – мало ли что они там себе в мыслях имеют, что добрых людей чураются.
На краю площади стояли три резных истукана – Колоса, покровителя пахоты и страды, Матёрого, владыки приплода и урожая, и Тура, хозяина стад. Первый-Сноп погрозил им кулаком – уголья от похвальных костров едва остыли, перья жертвенных кур ещё носит по улицам. Кто-то уже швырнул в Тура комком навоза так, что дрянь залепила бесстыжие зенки идола. И поделом.
Волшебник явился ещё до заката. Точнее, волшебниха – костлявая страшная баба с чёрными как смоль, заплетёнными во множество косичек патлами, на концах которых брякали амулеты. Под настороженными взорами сельчан, она хищно, словно охотничья псина, пробежалась по улицам, крутила острым носом, махала руками, наконец остановилась на площади подле истуканов и начала по-собачьи рыть землю. Рыла долго, пока не добыла пучок связанных хвостами дохлых крыс. Хмыкнула, припустилась к колодцу, бесстыже разделась догола (мужики отворачивались, отплёвывались втихую), скользнула вниз по верёвке и спустя небольшое время поднялась, зажав под мышкой осклизлый пук какой-то травы. Бросила запутку наземь, щёлкнула пальцами над ведром колодезной воды (оттуда пыхнуло дымом), облилась, неторопливо оделась.
– Кто Лесоноров обидел?
Мужики промолчали, у баб скривились лица. Лесоноры – невысокий, мохнатый, нелюдимый и негостеприимный народец – жили по чащам, бортничали, собирали грибы и ягоду с топей, обменивали лесные дары на молоко, сметану и медные слитки и с людьми обычно не ссорились, но раз поссорясь мстили долго, злобно и надоедливо – как мошка. Одну пальцем раздавишь, тьма и до смерти заесть может.
– Кому мохнорылые спать помешали? Кто на чужое добро позарился? – Волшебниха неторопливо прошлась по кругу, зыркая тёмными, налитыми кровью глазами по лицам сельчан. – Или по-плохому спросить, раз доброго слова не понимаете?
Ни слова в ответ. Красноглазая сорвала с косички медный череп с оскаленными зубами, пошептала над ним и выложила на ладонь.
– Пусть каждый из вас подойдёт и сунет черепу в пасть палец. Безвинного мой дружок не обидит, а тому, кто всю общину под напасть подвёл, ядовитым зубом всю кровь испортит. Подходи, ну!
Сказать, что Первый-Сноп хотел тыкать перстом в оскаленные медные зубы, было бы жесточайшей ложью. Староста трусил. Но точно знал – он Лесоноров пальцем не трогал, а злить красноглазых – себе дороже. Топнув правой ногой оземь – от зла – Первый-Сноп вышел вперёд и поднёс дрожащую руку к черепу.
– Невиновен, – спокойно сказала волшебниха. – Дальше.
– Эй, что встали, как девки на смотринах?! Подходи давай, раз госпожа волшебниха приказала! – рявкнул Первый-Сноп и за рукав выволок из рядов Волчью-Маму.
Староста знал наверняка, что дебелая и щедрая на любовь бабёнка за последние две седмицы надолго из деревни не отлучалась. Он почти силой сунул руку женщины в пасть черепа.
– Невиновна.
Крестьяне чуть осмелели. Поочерёдно – кто медленными шажками, кто залихватски топая – выходили в круг, тыкали пальцем в череп и возвращались, расплываясь в улыбках. Оставалось уже немного – с полдесятка мнущихся мужиков и баб – каждый из них, похоже, чуял вину перед Лесонорами, но признаваться в ней не хотел. Волшебниха двинулась было в их сторону, и тут Пёстрый-Пёс, молодой, ещё неженатый парень, выскочил вперёд и бухнулся красноглазой в ноги.
– Я, я виноват! Не карай, госпожа, смертью!
– Рассказывай! – Волшебниха нависла над парнем, как стервятник над стервом. – Убил кого? Снасильничал? Обокрал?
– Пчёл потравил. В лесу борть нашёл – уж до того богатую… Сунулся – а меня ихние пчёлы за все места покусали. Я до дому сгонял, дымовуху прихватил и назад. Пчёл-то выкурил, борть уволок, мёд слил, а вокруг медвежьей лапой следов наставил – думал, никто не узнает…
– Думать твоему отцу надо было, когда тебя делал, и матери, когда, родив, пуповиной дурака такого на месте не придушила. Почём у вас нынче борть?
– Живая, с пчёлами – шесть овец, – пробурчал Первый-Сноп.
– Не слышу, – прищурилась волшебниха.
– Шесть овец, госпожа.
– Пусть этот гнилоед дюжину овец Лесонорам представит, да в ножки падёт – авось помилуют. Радуйтесь, что не убил никого, – овцами бы не отделались, – сердито сказала волшебниха и прицепила череп на прежнее место (амулеты на косичках громко звякнули). – Гоните сюда скотину, лечить буду.
– Помилуй, госпожа, у нас с матушкой всего пять овец! – Пёстрый-Пёс всё ещё стоял на коленях.
– Займи. Продай. Заработай. Твоё дело, – отрезала волшебниха.
Первый-Сноп подал знак, и Лисий-Хвост на пару с Кривым-Ручьём под белы руки уволокли парня прочь, от греха подальше. Остальные побежали выгонять и выволакивать из хлевов коров, овец, свиней и драгоценных длинношёрстных козочек. На маленькой площади поднялся невообразимый гвалт, в довершение всего начал накрапывать мелкий, уже почти что осенний дождик. Красноглазая с бесстрастным лицом брала животных за морды, вдувала им в глаза и ноздри какой-то дымящийся порошок, вручала хозяину пучок сухих листьев для язв и, не слушая благодарностей, переходила дальше. Крестьяне мрачно ждали – чего затребует благодетельница, что её душеньке будет угодно. Кое-кто под шумок толкал локтями баб, чтобы детей с площади уводили. Но, вопреки обычаю, волшебниха не затребовала ничего. Чмокнула в нос последнюю козочку, подхватила кутуль со своими бебехами, вскинула на спину… и вдруг шкодно ухмыльнулась, необыкновенно от этого помолодев. Красные глаза озорно блеснули, волшебниха хлопнула в ладоши – и вместо капель дождя на деревню посыпались… бабочки. Белокрылые и голубоватые, пахнущие весенними цветами и свежими яблоками, они порхали, кружились в воздухе, садились на волосы и одежду и шерсть животных, а затем таяли без следа. Пока крестьяне раскрыв глаза, пялились на невиданное диво, волшебниха исчезла. Или, скорее всего, скрылась в лесочке. Последние бабочки закружились чудесным венком в воздухе и пропали. И вдруг раздался звонкий голос ребёнка:
– Мама, смотри, я тоже так могу!
Отрок лет семи выскользнул из толпы, хлопнул в ладоши. Одинокая бабочка, большая и пёстрая как курица, медленно села ему на голову. Крестьяне обмерли. Раздался страшный женский крик, на площадь выбежала безвестная батрачка, недавно прибившаяся к Речице и бравшаяся за любую работу ради хлеба и крова. Ухватив сына за руку, она попробовала втащить его назад, но гудящая, словно улей, толпа уже сомкнулась. Мужики начали доставать ножи и пастушьи дубинки, женщины развязывали тяжёлые пояса с медными пряжками. Батрачка ссутулилась, ощерилась словно рысь и тоже добыла короткий, необычно тёмный клинок. Окаянный мальчишка даже не разревелся – он единственный, похоже, не понимал, что его ждёт…
Первый-Сноп был бы плохим старостой, если бы не поспевал вовремя. Он точно знал – пролитая без суда кровь добром для общины не обернётся. О ледяной деревне, откуда в лютый мороз камнями прогнали сиротку-бродяжку, ходили слухи по всему краю. А кому делать нечего было, могли и ногами сходить проверить в верховья, за Сальную горку – дома стоят один к одному, коровы, петухи, псы – и всё-всё инеем тронуто.







