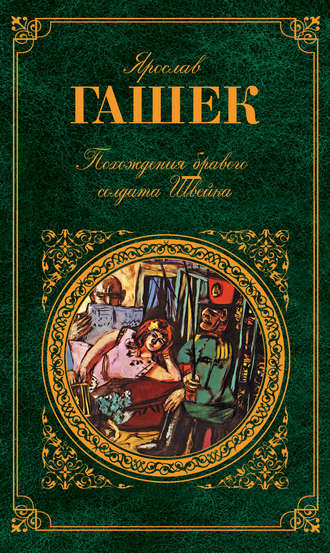
Ярослав Гашек
Похождения бравого солдата Швейка
Следователь Бернис считал себя настолько проницательным, что, не имея материала против обвиняемого, не зная, в чем его обвиняют и за что он вообще сидит в гарнизонной тюрьме, из одних только наблюдений за поведением и выражением лица допрашиваемого выводил заключение, за что этого человека держат в тюрьме. Его проницательность и знание людей были так глубоки, что одного цыгана, который попал в гарнизонную тюрьму из своего полка за кражу нескольких дюжин белья (он был подручным у каптенармуса), Бернис обвинил в политическом преступлении: дескать, тот в каком-то трактире вел агитацию среди солдат за создание самостоятельного чехословацкого государства во главе с королем-славянином.
– У нас на руках документы, – сказал он несчастному цыгану, – вам остается только признаться, в каком трактире вы это говорили, какого полка были те солдаты, что вас слушали, и когда это произошло.
Несчастный цыган выдумал и дату, и трактир, и полк, к которому принадлежали его мнимые слушатели, а когда возвращался с допроса, просто сбежал из гарнизонной тюрьмы.
– Вы не желаете ни в чем признаться? – спросил Бернис, видя, что Швейк хранит гробовое молчание. – Вы не хотите сказать, как вы сюда попали, за что вас посадили? Мне-то по крайней мере вы могли бы это сказать, пока я сам вам не напомнил. Предупреждаю еще раз, признайтесь. Вам же лучше будет, ибо это облегчит расследование и уменьшит наказание. В этом отношении у нас то же, что и в гражданских судах.
– Осмелюсь доложить, – прозвучал наконец добродушный голос Швейка, – я здесь, в гарнизонной тюрьме, вроде как найденыш.
– Что вы хотите этим сказать?
– Осмелюсь доложить, могу объяснить это очень просто… На нашей улице живет угольщик, у него был совершенно невинный двухлетний мальчик. Забрел раз этот мальчик пешком с Виноград в самую Либню, уселся на тротуаре – тут его и нашел полицейский. Отвел он его в участок, а там его заперли, двухлетнего-то ребенка! Видите, мальчик был совершенно невинный, а его все-таки посадили. Если бы его спросили, за что он сидит, то – умей он говорить – все равно не знал бы, что ответить. Вот и со мной приблизительно то же самое. Я тоже найденыш.
Быстрый взгляд следователя скользнул по фигуре и лицу Швейка и разбился о них. От всего существа Швейка веяло таким равнодушием и такой невинностью, что Бернис в раздражении зашагал по канцелярии, и если бы не обещание фельдкурату послать ему Швейка, то черт знает, чем бы кончилось это дело.
Наконец следователь остановился у своего стола.
– Послушайте-ка, – сказал он Швейку, с равнодушным видом глазевшему по сторонам, – если вы еще хоть раз попадетесь мне на глаза, то долго будете это помнить… Уведите его!
Пока Швейка вели назад в шестнадцатую, Бернис вызвал к себе смотрителя Славика.
– Впредь до дальнейших указаний Швейк передается в распоряжение господина фельдкурата Каца, – коротко приказал он. – Заготовить пропуск. Отвести Швейка с двумя конвойными к господину фельдкурату.
– Прикажете отвести его, господин поручик, в кандалах?
Следователь ударил кулаком по столу.
– Осел! Я же ясно сказал: заготовить пропуск!
И все, что накопилось за день в душе следователя: капитан Лингардт, Швейк, – все это бурным потоком устремилось на смотрителя и кончилось словами:
– Поняли наконец, что вы коронованный осел?!
Так полагалось бы величать только королей и императоров. Но даже простой смотритель, особа отнюдь не коронованная, все же не остался доволен таким обращением и, выходя от военного следователя, пнул ногой арестанта, мывшего коридор. Что же касается Швейка, то смотритель решил его оставить хотя бы еще на одну ночь в гарнизонной тюрьме, чтобы дать ему возможность вкусить всех ее прелестей.
Ночь, проведенная в гарнизонной тюрьме, навсегда остается приятным воспоминанием для каждого, побывавшего там.
Возле шестнадцатой находилась одиночка, жуткая дыра, откуда и в описываемую нами ночь доносился вой арестованного солдата, которому за какой-то проступок по приказанию смотрителя Славика фельдфебель Ржепа сокрушал ребра.
Когда вой затих, в шестнадцатой слышно было только щелканье вшей, попавших под ногти арестантов.
Над дверью в углублении, сделанном в стене, керосиновая лампа, снабженная предохранительной решеткой, бросала на стены тусклый свет и коптила. Запах керосина смешивался с испарением немытых человеческих тел и с вонью параши, которая после каждого употребления разверзала свои пучины и пускала новую волну смрада в шестнадцатую.
Плохая пища затрудняла процесс пищеварения, и большинство арестантов страдало скоплением газов; газы выпускались в ночную тишину, их встречали ответные сигналы, сопровождаемые остротами.
Из коридора доносились размеренные шаги часовых, время от времени открывался глазок в двери и «архангел» заглядывал внутрь.
На средней койке кто-то тихим голосом рассказывал:
– Меня перевели сюда после того, как я попробовал удрать. Раньше-то я сидел в двенадцатой. Там вроде сидят по более легким делам. Привели к нам раз одного деревенского мужика. Его посадили на две недели за то, что пускал к себе ночевать солдат. Сперва думали – политический заговор, а потом выяснилось, что он это делал за деньги. Он должен был сидеть с самыми мелкими преступниками, а там было полно, вот он и попал к нам. Чего он только с собой не принес из дому и чего ему только не присылали! Каким-то образом ему разрешили пользоваться своими харчами сверх тюремного пайка. И курить разрешили. Принес он с собой два окорока, этакий здоровенный каравай хлеба, яйца, масло, сигареты, табак… Ну, словом, все, о чем человек может только мечтать. Все это у него хранилось в двух мешках. Да, и забрал он себе в голову, что все это должен сожрать один. Стали мы у него просить по-хорошему, раз он сам не догадывается поделиться с нами, как делали все другие, когда что-нибудь получали. А он, скупердяй этакий, нет и нет: дескать, ему тут две недели сидеть и он может испортить себе желудок капустой да гнилой картошкой, которую нам дают на обед. Он, мол, отдает нам свой казенный обед и хлебный паек, ничего, дескать, против этого не имеет, можем разделить все поровну или же есть по очереди… Тонкого, скажу вам, понятия был человек: на парашу и садиться не желал, откладывал на другой день, чтобы во время прогулки проделать это в отхожем месте на дворе. Такой уж избалованный, что даже клозетную бумагу с собой принес. Мы ему сказали, что нам начхать на его порцию, и терпели день, другой, третий… Парень жрал ветчину, мазал хлеб маслом, лупил яйца, словом – жил как надо. Курил сигареты и даже затянуться никому не хотел дать: дескать, нам курить не разрешается и если «архангел» увидит, что он дает нам курить, то его посадят в одиночку. Словом, говорю, три дня мы терпели. На четвертый, ночью, настал час расплаты. Парень утром проснулся… Да, забыл вам сказать, что он каждый день утром, в обед и вечером, перед жратвой, всегда молился, подолгу молился. Помолился он, значит, и полез за своими мешками под нары. Да, мешки-то там лежали, но тощие, сморщенные, как сушеная слива. Он кричать, что его обокрали, что оставили ему только клозетную бумагу, но потом замолчал, минут пять подумал, решил, что мы пошутили и просто все куда-нибудь припрятали. Вот и говорит, да так весело: «Эх вы, мошенники, все равно вы мне все вернете. Ну и здорово это у вас получилось!» Был у нас там один из Либени, тот ему говорит: «Знаете что, накройтесь с головой одеялом и считайте до десяти, а потом посмотрите в свои мешки». Наш парень, как послушный мальчик, накрылся с головой и считает: «Раз, два, три…» А либенский говорит: «Не так быстро, считайте медленно!» А тот под одеялом снова давай считать, медленно, с расстановкой: «Раз… два… три…» Когда сосчитал до десяти, слез со своей койки, посмотрел в мешки. «Иисус Мария! Люди добрые! – начал кричать. – Мешки пустые, как и раньше!» Посмотрели бы вы на его глупую рожу! Мы чуть не лопнули со смеху. А либенский-то этот говорит: «Попробуйте-ка еще раз!» Так, верите ли, парень до того обалдел, что попробовал еще раз, а когда увидал, что в мешках опять ничего, кроме клозетной бумаги, нет, начал колотить в дверь и кричать: «Меня обокрали! Меня обокрали! Караул! Отоприте! Ради Бога, отоприте!» Моментально прибежали надзиратели, позвали смотрителя и фельдфебеля Ржепу. Мы все, как один, заявляем, что он помешался: дескать, вчера до самой поздней ночи жрал и все съел один. А он только плачет и все твердит: «Ведь хоть крошки-то должны остаться». Стали искать крошки и, конечно, не нашли. Не на дураков напали! Что сами не могли слопать, послали почтой по веревке во второй этаж. Ничего у нас не могли обнаружить, хотя этот дурак и ныл свое: «Но ведь крошечки-то должны где-нибудь остаться!» Целый день ничего не жрал, только смотрел, не ест ли кто-нибудь чего, не курит ли. На второй день он к обеду и не притронулся, однако вечером и гнилая картошка с капустой пришлись ему по вкусу. Только уж больше не молился, как прежде, когда напускался на ветчину и яйца. Потом один из нас каким-то образом разжился махоркой, и тут-то он с нами впервые заговорил, чтобы, дескать, дали ему затянуться. Черта с два мы ему дали!
– А я боялся, что вы ему дадите затянуться, – заметил Швейк. – Этим бы вы испортили весь рассказ. Такое благородство встречается только в романах, а в гарнизонной тюрьме это было бы просто глупостью.
– А сделали вы ему темную? – спросил кто-то.
– Нет, об этом забыли.
В шестнадцатой вполголоса открылась дискуссия, следовало после всего этого сделать ему темную или нет. Большинство высказалось «за».
Разговор понемногу затих. Арестанты засыпали, скребя под мышками, на груди и на животе, где вшей в белье водится особенно много. Засыпали, натягивая завшивевшие одеяла на голову, чтобы не мешал свет керосиновой лампы.
В восемь часов Швейка вызвали и приказали идти в канцелярию.
– По левой стороне у двери канцелярии стоит плевательница. Там бывают окурки, – поучал Швейка один из арестантов. – А на втором этаже еще одна стоит. Лестницу метут в девять, так что там сейчас что-нибудь найдется.
Но Швейк не оправдал их надежд. Больше в шестнадцатую он не вернулся. Девятнадцать подштанников судили и рядили об этом на все лады.
Веснушчатый ополченец, обладавший самой необузданной фантазией, объявил, что Швейк стрелял в своего ротного командира и его нынче отвели на Мотольский плац на расстрел.
Глава Х
Швейк в денщиках у фельдкурата
I
Далее швейковская одиссея развертывается под почетным эскортом двух солдат, вооруженных винтовками с примкнутыми штыками. Они должны были доставить его к фельдкурату.
Эти двое солдат взаимно дополняли друг друга: один был худой и долговязый, другой, наоборот, маленький и толстый; верзила хромал на правую ногу, маленький – на левую. Оба служили в тылу, так как до войны были совершенно освобождены от военной службы. Оба с серьезным видом топали по мостовой и изредка поглядывали на Швейка, который шагал между ними и по временам отдавал честь. Его штатское платье исчезло в цейхгаузе гарнизонной тюрьмы вместе с военной фуражкой, в которой он явился на призыв, и ему выдали старый мундир, ранее принадлежавший, очевидно, какому-то пузатому здоровяку, ростом на голову выше Швейка. В штаны, которые были на нем, влезло бы еще три Швейка. Бесконечные складки, от ног и чуть ли не до шеи – а штаны доходили до самой шеи, – поневоле привлекали внимание зевак. Громадная грязная и засаленная гимнастерка с заплатами на локтях болталась на Швейке, как кафтан на огородном пугале. Штаны висели, как у клоуна в цирке. Форменная фуражка, которую ему тоже подменили в гарнизонной тюрьме, сползала на уши.
На усмешки зевак Швейк отвечал мягкой улыбкой и ласковым, теплым взглядом своих добрых глаз.
Так продвигались они к Карлину, где жил фельдкурат. Первым заговорил со Швейком маленький толстяк. В этот момент они проходили по Малой Стране под галереей.
– Откуда будешь?
– Из Праги.
– Не удерешь от нас?
В разговор вмешался верзила. Поразительное явление: если маленькие толстяки бывают по большей части добродушными оптимистами, то люди худые и долговязые, наоборот, в большинстве случаев скептики. Следуя этому закону, верзила сказал маленькому:
– Кабы мог, удрал бы!
– А на кой ему удирать? – отозвался маленький толстяк. – Он и так на воле, не в гарнизонной тюрьме. Вот несу тут в пакете.
– А что там, в этом пакете для фельдкурата? – спросил верзила.
– Не знаю.
– Видишь, не знаешь, а говоришь…
Карлов мост они прошли в полном молчании. Но на Карловой улице маленький толстяк опять заговорил со Швейком:
– Не знаешь, зачем мы тебя ведем к фельдкурату?
– На исповедь, – небрежно ответил Швейк – Завтра меня будут вешать. Так всегда делается. Это, как говорится, для успокоения души.
– А за что тебя будут… того? – осторожно спросил верзила, между тем как толстяк с соболезнованием посмотрел на Швейка.
Оба конвоира были ремесленники из деревни, отцы семейств.
– Не знаю, – ответил Швейк, добродушно улыбаясь. – Я ничего не знаю. Видно, судьба.
– Стало быть, родился ты под несчастной звездой, – тоном знатока с сочувствием заметил маленький. – У нас в селе Ясени, около Йозефова, еще во время Прусской войны тоже вот так повесили одного. Пришли за ним, ничего не сказали и в Йозефове повесили.
– Я думаю, – скептически заметил долговязый, – что так, ни за что ни про что, человека не вешают. Должна быть какая-нибудь причина. Такие вещи просто так не делаются.
– В мирное время, – заметил Швейк, – может, оно и так, а во время войны один человек во внимание не принимается. Он должен пасть на поле брани или быть повешен дома! Что в лоб, что по лбу.
– Послушай, не политический ли ты какой? – спросил верзила. По тону его было заметно, что он начинает сочувствовать Швейку.
– Политический, даже очень, – улыбнулся Швейк.
– Может, ты национальный социалист?
Но тут уж маленький, в свою очередь, стал осторожным и вмешался в разговор.
– Нам-то что до этого, – сказал он. – И потом смотри-ка, всюду пропасть народу, и все на нас глазеют. Если бы мы хоть могли где-нибудь в воротах снять штыки, чтобы это как-нибудь… не так выглядело. Ты не удерешь? А то, знаешь, нам влетит. Верно, Тоник? – обратился он к верзиле.
Тот тихо сказал:
– Штыки-то мы могли бы снять. Все-таки это наш человек. – Он перестал быть скептиком, и душа его наполнилась состраданием к Швейку.
Тут они высмотрели подходящее место за воротами, сняли там штыки, и толстяк разрешил Швейку идти рядом с ним.
– Небось курить хочется? Да? – спросил он. – Кто знает…
Он хотел сказать: «Кто знает, дадут ли тебе закурить, перед тем как повесят», – но не докончил фразы, поняв, что это было бы бестактно.
Все закурили, и конвоиры Швейка стали рассказывать ему о своих семьях, живущих в районе Краловеградца, о женах, о детях, о клочке землицы, о единственной корове…
– Пить хочется, – заявил Швейк.
Долговязый и маленький переглянулись.
– По одной кружке и мы бы выпили, – сказал маленький, почувствовав согласие верзилы, – но зайти туда, где на нас бы не очень глазели.
– Идемте в «Куклик», – предложил Швейк, – там на кухне можно оставить ружья. Хозяином там – Серабона, сокол, его нечего бояться. Там играют на скрипке и на гармонике, бывают девки и другие приличные люди, которых не пускают в «репрезентяк».
Верзила и толстяк снова переглянулись, и верзила решил:
– Ну что ж, зайдем, до Карлина еще далеко.
По дороге Швейк рассказывал разные анекдоты, и они в чудесном настроении пришли в «Куклик» и поступили так, как советовал Швейк. Ружья спрятали на кухне и пошли в общий зал, где скрипка с гармошкой наполняли все помещение звуками излюбленной песни «На Панкраце, на холме, есть чудесная аллея».
Какая-то барышня сидела на коленях у юноши потасканного вида, с безукоризненным пробором, и пела сиплым голосом:
Обзавелся я девчонкой,
А гуляет с ней другой.
За одним столом спал пьяный сардинщик. Временами он просыпался, ударял кулаком по столу, бормотал: «Не выйдет!» – и снова засыпал. За бильярдом под зеркалом сидели три девицы и кричали железнодорожному кондуктору:
– Молодой человек, угостите нас вермутом!
Двое около музыкантов спорили о какой-то Марженке, которую вчера во время облавы «сцапал» патруль. Один утверждал, что видел это собственными глазами, другой же уверял, будто она вчера пошла спать с одним солдатом в гостиницу «Валыпум».
У самых дверей, в компании штатских, сидел солдат и рассказывал им о том, как его ранили в Сербии. У него была перевязана рука, а карманы набиты сигаретами, полученными от собеседников. Он все время повторял, что уже больше не может пить, а один из компании, плешивый старикашка, всякий раз его перебивал:
– Да выпей уж, солдатик! Кто знает, свидимся ли когда-нибудь? Велеть, чтоб сыграли вам что-нибудь? Любите «Сиротку»?
Это была любимая песня лысого старика. И через минуту скрипка с гармошкой завыли «Сиротку». У старика при этом на глазах выступили слезы, и он затянул дребезжащим голосом:
Чуть понятливее стала,
Все о маме вопрошала,
Все о маме вопрошала…
Из-за другого стола послышалось:
– Хватит! Ну их к черту! Катитесь вы с вашей «Сироткой»!
И в качестве последнего средства вражеский стол грянул:
Разлука, ах, разлука —
Для сердца злая мука.
– Франта, – позвали они раненого солдата, когда, заглушив «Сиротку», допели «Разлуку» до конца, – Франта, брось их, иди садись к нам! Плюнь на них и гони сюда сигареты. Брось забавлять этих чудаков!
Швейк и его конвоиры с интересом наблюдали за всем происходящим. Швейк, который часто сиживал тут еще до войны, пустился в воспоминания о том, как, бывало, здесь внезапно появлялся с облавой полицейский комиссар Драшнер и как его боялись проститутки, которые сложили про него песенку.
Раз они ее даже запели хором:
Как от Драшнера, от пана,
Паника поднялась.
Лишь одна Марженка спьяна
Его не боялась…
В этот момент вошел Драшнер со своей свитой, грозный и неумолимый. Последовавшая сцена напоминала охоту на куропаток: полицейские согнали всех в кучу. Швейк тоже очутился в этой куче, потому что на свою беду, когда комиссар Драшнер потребовал у него удостоверение личности, сказал ему: «А есть ли у вас на это разрешение полицейского управления?» Потом Швейк вспомнил еще об одном поэте, который сиживал вон там под зеркалом и среди шума и гама, под звуки гармошки, сочинял стихи и тут же читал их проституткам.
У конвоиров Швейка никаких воспоминаний подобного рода не было. Для них все было внове. Им тут начинало нравиться. Первым почувствовал себя здесь как рыба в воде маленький толстяк. Ведь толстяки, кроме своего оптимизма, отличаются еще большой склонностью к эпикурейству. Верзила с минуту боролся с самим собой, но, потеряв свой скептицизм, мало-помалу стал терять и сдержанность и последние остатки рассудительности.
– Пойду-ка потанцую, – сказал он после пятой кружки пива, увидав, как пары танцуют «шляпака».
Маленький полностью отдался радостям жизни. Возле него сидела какая-то барышня и несла похабщину. Глаза у него так и блестели.
Швейк пил.
Верзила, кончив танцевать, вернулся к столу с партнершей. Потом конвойные пели, снова танцевали, не переставая пили и похлопывали своих компаньонок. И в этой атмосфере продажной любви, никотина и алкоголя незримо витал старый девиз: «После нас – хоть потоп».
После обеда к ним подсел какой-то солдат и предложил сделать им за пять крон флегмону и заражение крови.
Шприц для подкожного впрыскивания у него при себе, и он может впрыснуть им в ногу или руку керосин.[46] После этого человек пролежит не менее двух месяцев, а если будет смачивать рану слюнями, то и все полгода, и его вынуждены будут совсем освободить от военной службы.
Верзила, потерявший всякое душевное равновесие, пошел с солдатом в уборную впрыскивать себе под кожу в ногу керосин.
Когда время подошло к вечеру, Швейк внес предложение отправиться в путь к фельдкурату. Но маленький толстяк, у которого язык начал уже заплетаться, соблазнил Швейка остаться еще. Верзила был тоже того мнения, что фельдкурат может подождать. Однако Швейку в «Куклике» уже надоело, и он пригрозил, что пойдет один.
Тронулись в путь, однако Швейку пришлось пообещать, что они сделают еще один привал. Остановились они за «Флоренцией» в маленьком кафе, где толстяк продал свои серебряные часы, чтобы они могли еще поразвлечься.
Оттуда конвоиров под руки вел уже Швейк. Это стоило ему большого труда. Ноги у них все время подкашивались, и их беспрестанно тянуло еще куда-нибудь зайти. Маленький толстяк чуть было не потерял пакет, предназначенный фельдкурату, и Швейку пришлось нести пакет самому. Всякий раз, когда навстречу им шел офицер или какой-нибудь унтер, Швейк должен был их предупреждать. Сверхчеловеческими усилиями ему удалось наконец дотащить своих конвоиров до Кралевской улицы, где жил фельдкурат. Швейк собственноручно примкнул к винтовкам штыки и, подталкивая конвоиров под ребра, добился, чтобы они его вели, а не он их.
Во втором этаже, где на дверях была визитная карточка «Отто Кац – фельдкурат», им вышел отворять какой-то солдат. Из соседней комнаты доносились голоса, звон бутылок и бокалов.
– Wir… melden… gehörsam… Herr… Feldkurat, – с трудом выговорил верзила, отдавая честь солдату, – ein… Paket… und ein Mann gebracht.[47]
– Влезайте, – сказал солдат. – Где это вы так нализались? Господин фельдкурат тоже… – И солдат сплюнул.
Солдат ушел с пакетом. Пришедшие долго ждали его в передней, пока наконец не открылась дверь и в переднюю не вошел, а как бомба влетел фельдкурат. Он был в одной жилетке и в руке держал сигару.
– Так вы уже здесь, – сказал он, обращаясь к Швейку. – А, это вас привели. Э… нет ли у вас спичек?
– Никак нет, господин фельдкурат, – ответил Швейк.
– А… а почему у вас нет спичек? Каждый солдат должен иметь спички, чтобы закурить. Солдат, не имеющий спичек, является… является… Ну?
– Осмелюсь доложить, является без спичек, – подсказал Швейк.
– Совершенно верно, является без спичек и не может дать никому закурить. Это во-первых. А теперь во-вторых. Ноги у вас воняют?
– Никак нет, не воняют.
– Так. Это во-вторых. А теперь в-третьих. Водку пьете?
– Никак нет, водки не пью, только ром.
– Отлично! Вот посмотрите на этого солдата. Я одолжил его на денек у поручика Фельдгубера, это его денщик. Он ни черта не пьет, такой рр… тр… трезвенник, а потому отправится с маршевой ротой. По… потому что такого человека мне не нужно. Это не денщик, а корова. Та тоже пьет одну воду и мычит, как бык.
– Ты т… т… резвенник! – обратился он к солдату. – Не… не стыдно тебе! Дурррак! Достукаешься – получишь в морду!
Тут фельдкурат обратил свое внимание на солдат, которые привели Швейка и, несмотря на то что изо всех сил старались стоять ровно, качались, тщетно пытаясь опереться на свои ружья.
– Вы п… пьяны!.. – сказал фельдкурат. – Вы напились при исполнении служебных обязанностей!.. За это я поса… садить велю вас! Швейк, отберите у них ружья, отведите на кухню и будете их сторожить, пока не придет патруль, чтобы их отвести. Я сейчас п… позвоню в казармы.
Итак, слова Наполеона «На войне ситуация меняется с каждым мгновением» нашли здесь полное свое подтверждение: утром конвоиры вели под штыками Швейка и боялись, как бы он у них не сбежал, а оказалось, что не они Швейка, а Швейк их привел к месту назначения и в конце концов Швейку же пришлось их караулить. Они не сразу сообразили, как обернулось дело, но когда, сидя на кухне, увидели в дверях Швейка с ружьем и примкнутым штыком, поняли все.
– Я бы чего-нибудь выпил, – вздохнул маленький оптимист.
Но на верзилу опять нашел припадок скептицизма. Он заявил, что все это – низкое предательство, и принялся громко обвинять Швейка за то, что по его вине они попали в такое положение. Он укорял его, вспоминая, как Швейк им обещал, что завтра его повесят, а теперь выходит, что исповедь, как и виселица, одно надувательство.
Швейк молча расхаживал около двери.
– Ослами мы были! – вопил верзила.
Выслушав все обвинения, Швейк сказал:
– Теперь вы по крайней мере видите, что военная служба вам не фунт изюма. Я только исполняю свой долг. Я влип в это дело случайно, как и вы, но, как говорится, мне «улыбнулась фортуна».
– Я бы чего-нибудь выпил! – в отчаянии повторял оптимист.
Верзила встал и, пошатываясь, подошел к двери.
– Пусти нас домой, – сказал он Швейку, – брось дурачиться, приятель!
– Отойди! – ответил Швейк. – Я вас должен караулить. Теперь мы незнакомы.
В дверях появился фельдкурат.
– Я… я никак не могу дозвониться в эти самые казармы. А потому ступайте домой да по… помните у меня, что на службе пьянствовать не… нельзя! Марш отсюда!
К чести господина фельдкурата будь сказано, что в казармы он не звонил, так как телефона у него не было, а просто говорил в настольную электрическую лампу.







