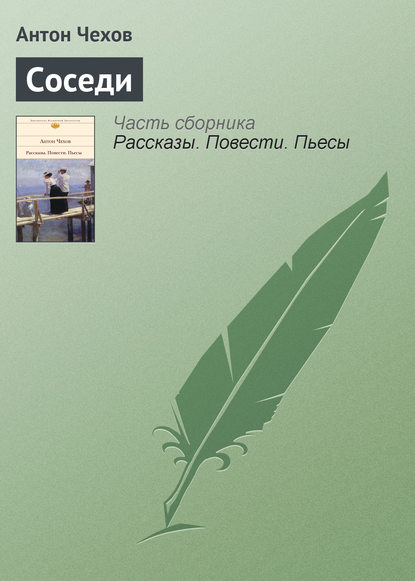 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Антон Павлович Чехов Соседи
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Антон Павлович Чехов
Соседи
Петр Михайлыч Ивашин был сильно не в духе: его сестра, девушка, ушла к Власичу, женатому человеку. Чтобы как-нибудь отделаться от тяжелого, унылого настроения, какое не оставляло его ни дома, ни в поле, он призывал к себе на помощь чувство справедливости, свои честные, хорошие убеждения – ведь он всегда стоял за свободную любовь! – но это не помогало, и он всякий раз помимо воли приходил к такому же заключению, как глупая няня, то есть, что сестра поступила дурно, а Власич украл сестру. И это было мучительно.
Мать целый день не выходила из своей комнаты, няня говорила шёпотом и всё вздыхала, тетка каждый день собиралась уехать, и чемоданы ее то вносили в переднюю, то уносили назад в комнату. В доме, во дворе и в саду была тишина, похожая на то, как будто в доме был покойник. Тетка, прислуга и даже мужики, казалось Петру Михайлычу, загадочно и с недоумением смотрели на него, как будто хотели сказать: «Твою сестру обольстили, что же ты бездействуешь?» И он упрекал себя в бездействии, хотя и не знал, в чем собственно должно было заключаться действие.
Так прошло дней шесть. В седьмой – это было в воскресенье после обеда – верховой привез письмо. Адрес был написан знакомым женским почерком: «Ее Превосх. Анне Николаевне Ивашиной». Петру Михайлычу почему-то показалось, что в оболочке письма и в почерке, и в недописанном слове «Превосх.» было что-то вызывающее, задорное, либеральное. А женский либерализм упрям, неумолим, жесток…
«Она скорее согласится умереть, чем сделать несчастной матери уступку, попросить у нее прощения», – подумал Петр Михайлыч, идя к матери с письмом.
Мать лежала в постели, одетая. Увидев сына, она порывисто поднялась и, поправляя седые волосы, выбившиеся из-под чепца, быстро спросила:
– Что? Что?
– Прислала… – сказал сын, подавая ей письмо. Имя Зины и даже слово «она» не произносилось в доме; о Зине говорили безлично: «прислала», «ушла»… Мать узнала почерк дочери, и лицо ее стало некрасивым, неприятным, и седые волосы опять выбились из-под чепца.
– Нет! – сказала она, делая руками так, как будто письмо обожгло ей пальцы. – Нет, нет, никогда! Ни за что!
Мать истерически зарыдала от горя и стыда; ей, очевидно, хотелось прочесть письмо, но мешала гордость. Петр Михайлыч понимал, что ему самому следовало бы распечатать письмо и прочесть его вслух, но им вдруг овладела злоба, какой он раньше никогда не испытывал; он выбежал на двор и крикнул верховому:
– Скажи, что ответа не будет! Не будет ответа! Так и скажи, скотина!
И разорвал письмо; потом слезы выступили у него на глазах, и, чувствуя себя жестоким, виноватым и несчастным, он ушел в поле.
Ему шел только двадцать восьмой год, но уж он был толст, одевался по-стариковски во всё широкое и просторное и страдал одышкой. В нем были уже все задатки помещика старого холостяка. Он не влюблялся, о женитьбе не думал и любил только мать, сестру, няню, садовника Васильича; любил хорошо поесть, поспать после обеда, поговорить о политике и о возвышенных материях… В свое время он кончил курс в университете, но теперь смотрел на это так, как будто отбыл повинность, неизбежную для юношей в возрасте от 18 до 25 лет; по крайней мере, мысли, которые теперь каждый день бродили в его голове, не имели ничего общего с университетом и с теми науками, которые он проходил.
В поле было жарко и тихо, как перед дождем. В лесу парило, и шел душистый тяжелый запах от сосен и лиственного перегноя. Петр Михайлыч часто останавливался и вытирал мокрый лоб. Он осмотрел свои озимые и яровые, обошел клеверное поле и раза два согнал на опушке куропатку с цыплятами; и все время он думал о том, что это невыносимое состояние не может продолжаться вечно и что надо его так или иначе кончить. Кончить как-нибудь глупо, дико, но непременно кончить.
«Но как же? Что же сделать?» – спрашивал он себя и умоляюще поглядывал на небо и на деревья, как бы прося у них помощи.
Но небо и деревья молчали. Честные убеждения не помогали, а здравый смысл подсказывал, что мучительный вопрос можно решить не иначе, как глупо, и что сегодняшняя сцена с верховым не последняя в этом роде. Что еще будет – страшно подумать!
Когда он возвращался домой, уже заходило солнце. Теперь уж ему казалось, что вопроса никак нельзя решить. С совершившимся фактом мириться нельзя, не мириться тоже нельзя, а средины нет. Когда он, снявши шляпу и обмахиваясь платком, шел по дороге и до дома оставалось версты две, сзади послышались звонки. Это был затейливый и очень удачный подбор колокольчиков и бубенчиков, издававших стеклянные звуки. С таким звоном ездил один только исправник Медовский, бывший гусарский офицер, промотавшийся и истасканный, больной человек, дальний родственник Петра Михайлыча. У Ивашиных он был своим человеком и к Зине питал нежное отеческое чувство и восхищался ею.
– А я к вам, – сказал он, обогнав Петра Михайлыча. – Садитесь, подвезу.
Он улыбался и глядел весело; очевидно, не знал еще, что Зина ушла к Власичу; быть может, ему уже сообщали об этом, но он не верил. Петр Михайлыч почувствовал себя в затруднительном положении.
– Милости просим, – пробормотал он, краснея до слез и не зная, как и что солгать. – Я очень рад, – продолжал он, стараясь улыбнуться, – но… Зина уехала, а мама больна.
– Какая досада! – сказал исправник, задумчиво глядя на Петра Михайлыча. – А я собирался провести у вас вечер. Куда же уехала Зинаида Михайловна?
– К Синицким, а оттуда, кажется, хотела в монастырь. Не знаю наверное.
Исправник поговорил еще немного и повернул назад. Петр Михайлыч шел домой и с ужасом думал о том, какое чувство будет у исправника, когда он узнает правду. И Петр Михайлыч вообразил себе это чувство и, испытывая его, вошел в дом.
«Помоги, господи, помоги…» – думал он. В столовой за вечерним чаем сидела одна только тетка. По обыкновению, на лице у нее было такое выражение, что она хоть и слабая, беззащитная, но обидеть себя никому не позволит. Петр Михайлыч сел на другой конец стола (он не любил тетки) и стал молча пить чай.
– Твоя мать сегодня опять не обедала, – сказала тетка. – Ты бы, Петруша, обратил внимание. Морить себя будешь голодом, этим горю не пособишь.
Петру Михайлычу показалось нелепым, что тетка вмешивается в чужие дела и свой отъезд ставит в зависимость от того, что ушла Зина. Он хотел сказать ей дерзость, но сдержал себя. И, сдерживая себя, он почувствовал, что настала подходящая пора, чтобы действовать, и что терпеть долее нет сил. Или действовать сейчас же, или же упасть на пол, кричать и биться головой о пол. Он вообразил Власича и Зину, как они оба, либеральные и довольные собой, целуются теперь где-нибудь под кленом, и всё тяжелое и злобное, что скоплялось в нем в течение семи дней, навалилось на Власича.
«Один обольстил и украл сестру, – подумал он, – другой придет и зарежет мать, третий подожжет дом или ограбит… И всё это под личиной дружбы, высоких идей, страданий!»
– Нет, этого не будет! – вдруг крикнул Петр Михайлыч и ударил кулаком по столу.
Он вскочил и выбежал из столовой. В конюшне стояла оседланная лошадь управляющего. Он сел на нее и поскакал к Власичу.
В душе у него происходила целая буря. Он чувствовал потребность сделать что-нибудь из ряда вон выходящее, резкое, хотя бы потом пришлось каяться всю жизнь. Назвать Власича подлецом, дать ему пощечину и потом вызвать на дуэль? Но Власич не из тех, которые дерутся на дуэли; от подлеца же и пощечины он станет только несчастнее и глубже уйдет в самого себя. Эти несчастные, безответные люди – самые несносные, самые тяжелые люди. Им всё проходит безнаказанно. Когда несчастный человек, в ответ на заслуженный упрек, взглянет своими глубокими виноватыми глазами, болезненно улыбнется и покорно подставит голову, то, кажется, у самой справедливости не хватит духа поднять на него руку.
«Всё равно. Я при ней ударю его хлыстом и наговорю ему дерзостей», – решил Петр Михайлыч.
Он ехал своим лесом и пустырями и воображал, как Зина, чтобы оправдать свой поступок, будет говорить о правах женщины, о свободе личности и о том, что между церковным и гражданским браком нет никакой разницы. Она по-женски будет спорить о том, чего не понимает. И, вероятно, в конце концов она спросит: «Причем ты тут? Какое ты имеешь право вмешиваться?»
– Да, я не имею права, – пробормотал Петр Михайлыч. – Но тем лучше… Чем грубее, чем меньше права, тем лучше.
Было душно. Низко над землей стояли тучи комаров, и в пустырях жалобно плакали чибисы. Всё предвещало дождь, но не было ни одного облачка. Петр Михайлыч переехал свою межу и поскакал по ровному, гладкому полю. Он часто ездил по этой дороге и знал на ней каждый кустик, каждую ямку. То, что далеко впереди теперь, в сумерках, представлялось темным утесом, была красная церковь; он мог вообразить ее себе всю до мелочей, даже штукатурку на воротах и телят, которые всегда паслись в ограде. В версте от церкви направо темнеет роща, это графа Колтовича. А за рощей начинается уже земля Власича.
Из-за церкви и графской рощи надвигалась громадная черная туча, и на ней вспыхивали бледные молнии.
«Вот оно что! – подумал Петр Михайлыч. – Помоги, господи, помоги».
Лошадь от быстрой езды скоро устала, и сам Петр Михайлыч устал. Грозовая туча сердито смотрела на него и как будто советовала вернуться домой. Стало немножко жутко.
«Я им докажу, что они не правы! – подбодрял он себя. – Они будут говорить, что это свободная любовь, свобода личности; но ведь свобода – в воздержании, а не в подчинении страстям. У них разврат, а не свобода!»
Вот большой графский пруд; от тучи он посинел и нахмурился; повеяло от него сыростью и тиной. Около гати две ивы, старая и молодая, нежно прислонились друг к другу. На этом самом месте недели две назад Петр Михайлыч и Власич шли пешком и пели вполголоса студенческую песню: «Не любить – погубить значит жизнь молодую…» Жалкая песня!
Когда Петр Михайлыч ехал через рощу, гремел гром, и деревья шумели и гнулись от ветра. Надо было торопиться. От рощи до усадьбы Власича оставалось еще проехать лугом не более версты. Тут по обе стороны дороги стояли старые березы. Они были так же печальны и несчастны на вид, как их хозяин Власич, так же были тощи и высоко вытянулись, как он. В березах и в траве зашуршал крупный дождь; ветер тотчас же стих и запахло мокрою землей и тополем. Вон показалась изгородь Власича с желтою акацией, которая тоже тоща и вытянулась; там, где решетка обвалилась, виден запущенный фруктовый сад.
Петр Михайлыч не думал уже ни о пощечине, ни о хлысте, и не знал, что будет он делать у Власича. Он струсил. Ему было страшно за себя и за сестру, и было жутко, что он ее сейчас увидит. Как она будет держать себя с братом? О чем они оба будут говорить? И не вернуться ли назад, пока не поздно? Думая так, он по липовой аллее поскакал к дому, обогнул широкие кусты сирени и вдруг увидел Власича.
Власич, без шляпы, в ситцевой рубахе и высоких сапогах, согнувшись под дождем, шел от угла дома к крыльцу; за ним работник нес молоток и ящик с гвоздями. Должно быть, починяли ставню, которая хлопала от ветра. Увидев Петра Михайлыча, Власич остановился.
– Это ты? – сказал он и улыбнулся. – Ну, вот и хорошо.
– Да, приехал, как видишь… – тихо проговорил Петр Михайлыч, стряхивая с себя дождь обеими руками.
– Ну, вот и ладно. Очень рад, – сказал Власич, но руки не подал: очевидно, не решался и ждал, когда ему подадут. – Для овсов хорошо! – сказал он и поглядел на небо.
– Да.
Молча вошли в дом. Направо из передней вела дверь в другую переднюю и потом в залу, а налево – в маленькую комнату, где зимою жил приказчик. Петр Михайлыч и Власич вошли в эту комнату.
– Тебя где дождь захватил? – спросил Власич.
– Недалеко. Почти около дома.
Петр Михайлыч сел на кровать. Он был рад, что шумел дождь и что в комнате было темно. Этак лучше: не так жутко и не нужно собеседнику в лицо смотреть. Злобы у него уже не было, а были страх и досада на себя. Он чувствовал, что дурно начал и что из этой его поездки не выйдет никакого толку.
Оба некоторое время молчали и делали вид, что прислушиваются к дождю.
– Спасибо, Петруша, – начал Власич, кашлянув. – Я очень благодарен тебе, что ты приехал. Это великодушно и благородно с твоей стороны. Я это понимаю и, верь мне, ценю высоко. Верь мне.
Он поглядел в окно и продолжал, стоя среди комнатки:
– Всё произошло как-то тайно, точно мы скрывались от тебя. Сознание, что ты, быть может, оскорблен нами и сердишься, все эти дни лежало пятном на нашем счастье. Но позволь оправдаться. Действовали мы тайно не потому, что тебе мало доверяли. Во-первых, всё произошло внезапно, по какому-то вдохновению, и рассуждать было некогда. Во-вторых, это дело интимное, щекотливое… было неловко вмешивать третье лицо, хотя бы даже такое близкое, как ты. Главное же, во всем этом мы сильно рассчитывали на твое великодушие. Ты великодушнейший, благороднейший человек. Я тебе бесконечно благодарен. Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее.
Власич говорил тихим, глухим басом, всё в одну ноту, будто гудел; он, видимо, волновался. Петр Михайлыч почувствовал, что наступила его очередь говорить и что слушать и молчать значило бы для него в самом деле разыгрывать из себя великодушнейшего и благороднейшего простака, а он не за этим сюда приехал. Он быстро поднялся и сказал вполголоса, задыхаясь:
– Послушай, Григорий, ты знаешь, я любил тебя и лучшего мужа для своей сестры не желал; но то, что произошло, ужасно! Страшно подумать!
– Почему же страшно? – спросил Власич дрогнувшим голосом. – Было бы страшно, если бы мы дурно поступили, но ведь этого нет!
– Послушай, Григорий, ты знаешь, я без предрассудков; но, извини за откровенность, по моему мнению, вы оба поступили эгоистически. Конечно, я этого не скажу Зине, это ее огорчит, но ты должен знать: мать страдает до такой степени, что описать трудно.
– Да, это грустно, – вздохнул Власич. – Мы это предвидели, Петруша, но что же мы должны были делать? Если твой поступок огорчает кого-нибудь, то это еще не значит, что он дурен. Что делать! Всякий твой серьезный шаг неминуемо должен огорчить кого-нибудь. Если бы ты пошел сражаться за свободу, то это тоже заставило бы твою мать страдать. Что делать! Кто выше всего ставит покой своих близких, тот должен совершенно отказаться от идейной жизни.
За окном ярко сверкнула молния, и этот блеск как будто изменил течение мыслей у Власича. Он сел рядом с Петром Михайлычем и заговорил совсем не то, что нужно.
– Я, Петруша, благоговею перед твоею сестрой, – сказал он. – Когда я ездил к тебе, то всякий раз у меня бывало такое чувство, как будто я шел на богомолье, и я в самом деле молился на Зину. Теперь мое благоговение растет с каждым днем. Она для меня выше, чем жена! Выше! (Власич взмахнул руками.) Она моя святыня. С тех пор, как она живет у меня, я вхожу в свой дом как в храм. Это редкая, необыкновенная, благороднейшая женщина!
«Ну, завел свою шарманку!» – подумал Петр Михайлыч; слово «женщина» ему не понравилось.
– Отчего бы вам не жениться по-настоящему? – спросил он. – Сколько твоя жена хочет за развод?
– Семьдесят пять тысяч.
– Многовато. А если поторговаться?
– Не уступит ни копейки. Это, брат, ужасная женщина! – вздохнул Власич. – Я тебе раньше о ней никогда не говорил, было противно вспоминать, но вот пришлось к случаю, упоминаю. Женился я на ней под влиянием хорошей, честной минуты. В нашем полку, если хочешь подробностей, один батальонный командир сошелся с восемнадцатилетнею девицей, то есть, попросту, обольстил ее, пожил с ней месяца два и бросил. Очутилась она, брат, в ужаснейшем положении. К родителям возвращаться совестно, да и не примут, любовник бросил, – хоть иди в казармы и продавай себя. Товарищи по полку были возмущены. Сами тоже они не святые, но подлость уж очень глаза резала. Батальонного, к тому же, в полку все терпеть не могли. И, чтобы подложить ему свинью, понимаешь ли, стали все негодующие прапорщики и подпоручики собирать деньги по подписке в пользу несчастной девицы. Ну, вот, когда мы, младшие обер-офицеры, собрались на совещание и когда стали выкладывать кто пять, кто десять рублей, у меня вдруг загорелась голова. Обстановка показалась мне слишком подходящею для подвига. Я поспешил к девице и в горячих выражениях высказал ей свое сочувствие. И пока я шел к ней и потом говорил, я горячо любил ее, как униженную и оскорбленную. Да… Ну, вышло так, что через неделю после этого я сделал ей предложение. Начальство и товарищи нашли брак мой несовместимым с достоинством офицера. Это меня еще пуще воспламенило. Я, понимаешь ли, написал длинное письмо, в котором доказал, что мой поступок должен быть записан в истории полка золотыми буквами и прочее. Письмо послал командиру, а копии товарищам. Ну, конечно, был возбужден и не обошлось без резкостей. Меня попросили оставить полк. Где-то у меня спрятан черновик, я тебе дам прочесть как-нибудь. Написано с большим чувством. Ты увидишь, какие я переживал честные, светлые минуты. Подал я в отставку и приехал с женой сюда. После отца остались кое-какие должишки, денег у меня не было, а жена с первого же дня завела знакомства, стала щеголять и играть в карты, и я вынужден был заложить имение. Вела она, понимаешь ли, нехорошую жизнь, и из всех моих соседей только один ты не был ее любовником. Года через два дал я ей отступного, всё, что у меня было тогда, и она уехала в город. Да… И теперь я выплачиваю ей по тысяче двести ежегодно. Ужасная женщина! Есть, брат, муха, которая кладет личинку на спину паука таким образом, что тот никак не может сбросить ее; личинка прирастает к пауку и пьет из его сердца кровь. Точно так же вот приросла ко мне и пьет из моего сердца кровь эта женщина. Она ненавидит и презирает меня за то, что я сделал глупость, то есть женился на такой женщине, как она. Мое великодушие кажется ей жалким. «Умный человек, говорит, бросил меня, а дурак подобрал». По ее мнению, только жалкий идиот мог поступить так, как я. И мне, брат, это невыносимо горько. Вообще, брат, скажу в скобках, гнет меня судьба. В дугу гнет.
Петр Михайлыч слушал Власича и в недоумении спрашивал себя: чем этот человек мог так понравиться Зине? Немолодой, – ему уже 41 год, – тощий, сухопарый, узкогрудый, с длинным носом, с проседью в бороде. Говорит он – точно гудёт, улыбается болезненно и, разговаривая, некрасиво взмахивает руками. Ни здоровья, ни красивых мужественных манер, ни светскости, ни веселости, а так, с внешней стороны, что-то тусклое и неопределенное. Одевается он безвкусно, обстановка у него унылая, поэзии и живописи он не признает, потому что они «не отвечают на запросы дня», то есть он не понимает их; музыка его не трогает. Хозяин он плохой. Имение у него приведено в полное расстройство и заложено; по второй закладной он платит двенадцать процентов и, кроме того, по векселям еще должен тысяч десять. Когда приходит время платить проценты или высылать жене деньги, он просит у всех взаймы с таким выражением, как будто у него дома пожар, и в это время, очертя голову, продает он весь свой зимний запас хвороста за пять рублей, скирду соломы за три рубля и потом велит топить свои печи садовою решеткой или старыми парниковыми рамами. Луга у него потравлены свиньями, в лесу по молодняку ходит мужицкий скот, а старых деревьев с каждой зимой становится всё меньше и меньше; в огороде и в саду валяются пасечные колодки и ржавые ведра. У него нет ни талантов, ни дарований и нет даже обыкновенной способности жить, как люди живут. В практической жизни это наивный, слабый человек, которого легко обмануть и обидеть, и мужики недаром называют его «простоватым».
Он либерал и считается в уезде красным, но и это выходит у него скучно. В его вольнодумстве нет оригинальности и пафоса; возмущается, негодует и радуется он как-то всё в одну ноту, не эффектно и вяло. Даже в минуты сильного воодушевления он не поднимает головы и остается сутулым. Но скучнее всего, что даже свои хорошие, честные идеи он умудряется выражать так, что они кажутся у него банальными и отсталыми. Вспоминается что-то старое, давно читанное, когда он медленно, с глубокомысленным видом, начинает толковать про честные, светлые минуты, про лучшие годы, или когда восторгается молодежью, которая всегда шла и идет впереди общества, или порицает русских людей за то, что они в тридцать лет надевают халат и забывают заветы своей almae matris. Когда остаешься у него ночевать, то он кладет на ночной столик Писарева или Дарвина. Если скажешь, что я это уже читал, то он выйдет и принесет Добролюбова. Это называлось в уезде вольнодумством, и многие смотрели на это вольнодумство как на невинное и безобидное чудачество; но оно, однако, сделало его глубоко несчастным. Оно было для него тою личинкой, о которой он только что говорил: крепко приросло к нему и пило из его сердца кровь. В прошлом странный брак во вкусе Достоевского, длинные письма и копии, писанные плохим, неразборчивым почерком, но с большим чувством, бесконечные недоразумения, объяснения, разочарования, потом долги, вторая закладная, жалованье жене, ежемесячные займы – и всё это никому не в пользу, ни себе, ни людям. И в настоящем, как прежде, всё он топорщится, ищет подвига и суется в чужие дела; по-прежнему, при всяком удобном случае, длинные письма и копии, утомительные, шаблонные разговоры об общине или о поднятии кустарной промышленности, или об учреждении сыроварен, – разговоры, похожие один на другой, точно он приготовляет их не в живом мозгу, а машинным способом. И наконец этот скандал с Зиной, который неизвестно чем еще кончится!
А между тем сестра Зина молода, – ей только 22 года, – хороша собой, изящна, весела; она хохотушка, болтунья, спорщица, страстная музыкантша; она знает толк в нарядах, в книгах и в хорошей обстановке, и у себя дома не потерпела бы такой комнатки, как эта, где пахнет сапогами и дешевою водкой. Она тоже либералка, но в ее вольнодумстве чувствуются избыток сил, тщеславие молодой, сильной, смелой девушки, страстная жажда быть лучше и оригинальнее других… Как же могло случиться, что она полюбила Власича?
«Он – Дон-Кихот, упрямый фанатик, маньяк, – думал Петр Михайлыч, – а она такая же рыхлая, слабохарактерная и покладистая, как я… Мы с ней сдаемся скоро и без сопротивления. Она полюбила его; но разве я сам не люблю его, несмотря ни на что…»
Петр Михайлыч считал Власича хорошим, честным, но узким и односторонним человеком. В его волнениях и страданиях, да и во всей его жизни, он не видел ни ближайших, ни отдаленных высших целей, а видел только скуку и неуменье жить. Его самоотвержение и всё то, что Власич называл подвигом или честным порывом, представлялись ему бесполезною тратой сил, ненужными холостыми выстрелами, на которые шло очень много пороху. А то, что Власич фанатически верил в необыкновенную честность и непогрешимость своего мышления, казалось ему наивным и даже болезненным; и то, что Власич всю свою жизнь как-то ухитрялся перепутывать ничтожное с высоким, что он глупо женился и считал это подвигом, и потом сходился с женщинами и видел в этом торжество какой-то идеи, – это было просто непонятно.
Но все-таки Петр Михайлыч любил Власича, чувствовал присутствие в нем какой-то силы, и почему-то у него никогда не хватало духа противоречить ему.
Власич подсел совсем близко, чтобы потолковать под шумок дождя, в темноте, и уже откашлялся, готовый рассказать что-нибудь длинное, вроде истории своей женитьбы; но Петру Михайлычу невыносимо было слушать; его томила мысль, что сейчас он увидит сестру.
– Да, тебе не везло в жизни, – сказал он мягко, – но, извини, мы с тобой уклонились от главного. Мы не о том говорим.
– Да, да, в самом деле. Так вот вернемся к главному, – сказал Власич и встал. – Я говорю тебе, Петруша: совесть наша чиста. Мы не венчаны, но что брак наш вполне законен – не мне доказывать и не тебе слушать. Ты так же свободно мыслишь, как я, и, слава богу, разногласия у нас на этот счет не может быть. Что же касается до нашего будущего, то оно не должно пугать тебя. Я буду работать до кровавого пота, не спать ночей, – одним словом, я напрягу все силы, чтобы Зина была счастлива. Жизнь ее будет прекрасной. Ты спросишь: сумею ли я это сделать? Сумею, брат! Когда человек думает каждую минуту всё об одном и том же, то ему не трудно добиться, чего он хочет. Но пойдем к Зине. Надо ее обрадовать.
У Петра Михайлыча забилось сердце. Он встал и пошел за Власичем в переднюю, а оттуда в залу. В этой громадной, угрюмой комнате был только фортепьян да длинный ряд старинных стульев с бронзой, на которые никто никогда не садился. На фортепьяне горела одна свеча. Из залы молча прошли в столовую. Тут тоже просторно и неуютно; посреди комнаты круглый стол из двух половинок на шести толстых ногах и только одна свеча. Часы в большом красном футляре, похожем на киот, показывали половину третьего.







