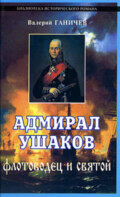Валерий Николаевич Ганичев
Росс непобедимый...
КАЗАЦКАЯ ДУМА
Зажурылись запорожцы, шо нема им
воли, ни на Днипри, ни на Роси,
ни в чистому поли…
Украинская народная песня
Двухколесная котыга – кош, обитая снаружи войлоком остановилась перед крепостными воротами Сечи. Медленно вылез из нее Щербань. Птицей слетал он раньше с коня. По-казачьи лихо и красиво одевался и причепуривался, подъезжая обычно к славному центру войска запорожского. Сейчас он поглядел на свою пропитанную салом сорочку, потертые, хотя добрые еще шаровары из телячьей кожи, запыленные свинячьи постолы, поправил ременной пояс с кошельком – гаманом, перекинутым через плечи, передвинул набок швайку[2] и ложечник, махнул рукой и пошел к крепости. Та обнесена была заостренными сверху дубовыми палями и обмывалась двумя небольшими речками Павлюком и Подпольной.
У въезда, у городских ворот, в молчании сидели калеки, уроды, кривые, безногие, ожидая от доброхотов милостыню. Подле них остановился подвыпивший казак и раздавал талеры, серебряные монетки и все, что осталось у него после попойки. Нищие знали, что добрее и щедрее запорожских казаков никого в мире нет. Слава об этом распространилась по всей Украине и Польше, и многие шли и даже проползали сотни километров, чтобы приобщиться к щедрости славных воинов.
– Кончилась воля наша! – сказал казак, раздавая монетки и показывая на распухшее и обезображенное тело висевшего вора. – Так и с нами скоро будет!
Убогие смотрели на повешенного без сочувствия. Знали строгие запорожские порядки в отношении к ворам разбойникам, коих обезображивали в назидание живым: лучше просить, чем воровать и кончать жизнь на виселице.
Щербань вспомнил, что повесили тут на крепостной стене и атамана Стецька Безыменного за то, что брал от воров взятки, нарушая запорожскую справедливость и честь. И пошел задами к своему бывшему миргородскому куреню. Прошел он мимо полтавского, переяславского, батуринского, ирклиевского, поповичского, донского, кущевского, деревянковского, кисляковского да почти мимо всех сорока куреней, и вот он, его родной миргородский. Здесь провел он тридцать лет. Пришел молодым парубком, сразу после возвращения казаков из проклятой Туреччины, куда загнало их предательство Мазепы. И здесь жил почти с самого основания Новой Подполненской Сечи. Знали казаки и другие Сечи: Хортицкую, Базавлукскую, Токмаковскую, Микитинскую, Чортомлыцкую, Каменскую, Алешкинскую. Правда, последние были у турок и существовали недолго. Грустно было на душе у старого Щербаня, когда подошел к своему куреню. Подошел. Постоял. Подумал. Сколько съел он здесь гречневой и ячменной каши, похлебал тетери из ржаной муки, выпил горилки, пива и венгерской мальвазии. Заглянул вовнутрь длинных сеней, где в изразцовой грубе таился жар. Посреди стоял пятиаршинный очаг – кабыця. Над кабыцей на железных цепях висело два казана, в которых казаки обычно варили кулеш да и другую пищу. Здесь огонь не горел. «Может, кто в курене есть?» – подумал Щербань. Но в самом курене на длинном столе, сбитом из одной доски и именуемом сырно, были разбросаны миски. Ложку казак не оставлял, всегда носил с собой. А на помосте, где помещалось до ста человек, было голо – ни рядна, ни кошмы. На покути горела неугасимая лампада, и тут же лежала копилка-карнавка с одной копейкой на дне. На крюках вдоль стены висело всего три рушницы и две сабли. Щербань задумался: куда же все подевались? Наверное, на главной площади. «Пойду туда», – решил он. Но по дороге заглянул в церковь. Тут раньше было людно. Любили сходиться запорожцы и снимать свои грехи, которых набиралось немало за время похода. Были тут два диакона, из которых одного ясновельможные и невельможные паны казаки почитали за голос, а второго за ученость. Про первого весельчаки говаривали, что, когда он читает в церкви Евангелие, туда ходить не следует, а слушать надо в курене. А про другого, щуплого и небольшого, забавники говорили, что весь его рост ушел в риторику.
При дороге у куреней, раскинув руки, лежало несколько казаков. Один из них был в парадном своем платье, другой – в одном исподнем. Казак открыл глаза, увидел Щербаня, поднял палец и медленно сказал:
– Не пий, казак, трезвым будь.
– Сам бы исполнил сей наказ, – ответил Щербань.
Казак повернулся на бок и промолвил:
– Для того говорю, что моя тобой невидимая трезвость не так тебе полезна, как мой совет, если послушаешься.
Не знал что и ответить Щербань. Но тут подошел к нему шинкарь Рубель и шепнул:
– Петро блажит единственно для того, чтобы одним наружным пороком прикрыть внутренние свои добродетели.
Недоверчиво покачал головой казак и пошел дальше. Откуда-то вынырнули двое нищих и стали протягивать черного калибру просвирки:
– Купи, ясновельможный казаче!
Щербань отмахнулся, знал по прежним порядкам, что, выпросив у щедрых пономарей просвирки, эти «жебраки» таскаются по вельможным панам, по куреням, шинкам и продают сей святой товар хоть и недорого, но оставшись в прибыли.
Одноглавая церковь без ограды, крытая тесом, построенная во имя покрова пресвятой богородицы, снабжена была богатейшей церковной утварью, ризами и убором, лучше которых, как говорили, ни в России, ни на Украине не сыскать. Недалеко высилась деревянная колокольня с четырьмя окнами для пушек, чтобы отстреливаться от врага и салютовать на крещение, пасху, рождество, покров.
Щербань зашел в церковь, осенил себя крестным знамением и вышел. На сосновой стене колокольни было выписано красивой вязью давно выученное на память Щербанем послание запорожцев Махмуду IV. Мелкими буквами вверху было написано обращение Махмуда:
«Я, султан, сын Магомета, брат солнца и воды, внук и наместник божий, владелец царства Македонского, Вавилонского, Иерусалимского, Великого и Малого Египта, царь над царями, властелин над властелинами, необыкновенный рыцарь, никем непобедимый, неотступный хранитель гроба Иисуса Христа, попечитель самого бога, надежда и утешение мусульман, смущение и великий заступник христиан – повелеваю вам, запорожским казакам, сдаться мне добровольно и без всякого сопротивления и меня вашими нападениями не заставлять беспокоить. Султан турецкий Махмуд IV». И дальше большими буквами – ответ:
«ЗАПОРОЖСКИЕ КАЗАКИ ТУРЕЦКОМУ СУЛТАНУ:
Ты, шайтан турецкий, проклятого черта брат и товарищ, и самого люцыпера секретарь. Який ты в черта лыцарь? Черт с…е, а ты и твое вийско пожирае. Не будешь ты годен сынив христианских под собой маты, твоего войска мы не боимося, землею и водою будем бытыся з тобою, вавилонский ты кухар, македонский колесник, иерусалимский броварник, александрийский козолуп, Великого и Малого Египта свинарь, армянска свыня, татарский сагайдак, камынецкий кат, подолянский злодиюка, самого гаспыда внук и всего свиту и подсвиту блазень, а нашего бога дурень, свыняча морда, ризницька собака, нехрищеный лоб, хай взяв тебя черт. Отак тоби казаки отказали плюгавче! Невыгоден еси матери вирных христиан. Числа не знаем, бо календаря не маем, мисяц у неби, год у книзи, а день такый у нас, як и у вас, поцилуй за те ось куда нас! Кошовый атаман Сирко со всем кошом запорожским».
Подивился еще раз Щербань, как ловко написано, но что рядом с церковью повесили, не одобрил, не для того святой дом…
На майдане, где собирались обычно казаки на Раду и выборы, знакомых не было. Может, они у полтавского куреня, и потянулся туда. Да, за куренем полтавчан лежало на кошмах и халатах, сидело сотни две казаков. То была красивая и родная для Щербаня картина. В центре товарищества на таганке стояла громадных размеров «обчиська» люлька, вся обсажена монистами, дорогими камнями, разными бляхами, и по ней кривыми буквами была надпись: «Казацка люлька – добра думка». И точно, когда подходил казак к ней, брал двумя руками, сосредоточивался, делал две затяжки, успокаивался, вроде прояснялась его голова, суетливые думки укладывались рядком, чтоб их стало видно, и был готов он не кричать без разбору, а сказать свое весомое, нужное другим и разумное слово. А если слова не давали, отходил в сторону, доставал свою люлечку-носогрейку или нюхательный рожок и ждал, когда подойдет его очередь. Один казак отсел в сторону и точил саблю, другой ковырялся в пистоле, третий держал в руках концы поясов, на которые накручивались два дюжих его товарища. Пояс у одного был зеленый, и он крутился по нему, другой разглаживал каждую морщинку и хотя медленно, но приближался к другу. Щербань ступил в круг и молча поклонился. Сидевший у люльки, с бритой головой и чуприной-оселедцем, завязанной два раза за левое ухо, хмуро спросил:
– Хто таков?
Двое других привстали и, всмотревшись, радостно вскрикнули:
– Та то наш Толкач-Щербань с зимовника мабуть явился.
Толкачом Щербаня прозывали за то, что раньше он ходил, прямо и гордо поднявши голову.
– Согнуло твоего Толкача, однако же, – бросил бритый.
– Горе у него. Родных порезали и поубивали татары.
– Ну раз горе, то сидай, казак, с нами, у нас тоже не радость. А тебя мы знаем, добрый был казак, пока гречкосеем не заделался. Сидай. Да слово свое потом скажешь.
Щербань сел недалеко от своих старых знакомых миргородцев, достал кресало и ударил по зажатому меж пальцев кремню. Трут затлел после двух ударов, старый был добрый кресальщик. Достал из-за околыша шапки свою люлечку и, понюхав, прикурил, прислушиваясь к речам.
Речи на сей раз были не горлопанистые. Чуяло казацкое сердце: надвигаются суровые времена. По всему видно, заканчивались запорожские вольности. Старшина[3] получала свои деревни и села, хоть бурчала в усы о славном прошлом, об исчезающих вольностях, но вступать в их защиту не собиралась. Тем более что поговаривали, родовитым да богатым будет учреждено дворянское звание. Ну а сейчас шла война с вечным врагом – турками, казаки думали и, об этом.
Храбро сражались запорожцы в русско-турецкой войне в первую кампанию, и встречала их после первого похода Сечь звучно и громко. Почти семь тысяч храбрых воинов боевого товарищества возвращались в Сечь, хотя выезжало больше. Многие положили головы в забугских степях. Впереди всех по традиции ехал атаман Кальнишевский и знаменитые на все войско старшины Павел Головатый, Андрей Лях, Лукьян Великий, Алексей и Софрон Черные, Иван Бурнос и Филипп Стягайло, семь полковников и множество других чинов.
Вспомнилось горькое начало кампании. Еще только объявили о начале войны, разворачивались армии Румянцева и Голицына, а орда Крым-Гирея перешла Днестр и через Очаковские степи бросилась на Буг, на запорожские и Новороссийские села по Синюхе, Ташлыку, Ингулу и Мертвоводью лежащие. Крым-Гирей был в немилости у султана за свою самостоятельность, но теперь знал, что его за ненависть к славянам, к русским и украинцам, за свирепость вернули из Родосской ссылки, а по приезде в Константинополь приветствовали отсечением головы у десятка черногорцев. Вместе с французом бароном де Тоттом, его военным советником, он прибыл в Крым, и оттуда черная лавина двинулась на Украину. Другой отряд татар, дождавшись ухода запорожцев из Сечи в Поле, подошел к сердцу запорожцев с востока и запалил села и зимовники по Волчьей Кильчене, Самаре и другим речкам. Все жители были там перерезаны или угнаны со скотом в плен. Кинулись преследовать их запорожцы, почти тысячу врагов уничтожили, но скрытно по балкам повернула орда на Новую Россию и Ново-Сербию (еще при Елизавете заселенную выходцами с Балкан и России), почти все села от Ингула до Польши уничтожила. Устояла одна крепость Святой Елисаветы, где генерал Исаков собрал не уничтоженных жителей, казаков и солдат и отбил все вражеские атаки. Храбро сражались в русских войсках сербы, получившие пристанище и новую родину здесь, в России. Особо отличился отряд героев Зорича, состоявший из сербских пикинеров и украинских казаков. Они организовали преследование крымского хана и разгромили его боевой отряд у реки Каменки, остатки гнали до Очакова, где у речки Янчокрак и добили. Захватили там знатную добычу: знамена, много пленных христиан и мусульман и большие стада овец, лошадей и рогатого скота.
По принятому обычаю разделили добычу на две части, и кош послал генералу Румянцеву «его» пленных и двух жеребцов с седлом. Много дней еще патрулировали в Забужье казаки между речками Чичиклея, Кодыма, Тилигула, Куяльник, нападая на обозы, отряды, беря в плен турок-янычар, валахов, крымчаков.
Тут и был убит куренной атаман Яков Воскобойник с пятью казаками.
Царица «премного была довольна» своими запорожцами и позволила объявить им благодарность, а атаману Кальнишевскому прислала свой портрет, усыпанный бриллиантами. Благодарность неслыханная.
Гулким салютом встретила Сечь возвращающееся войско. Громыхнула первая гармата на Гасан-башне, а потом ударили куренные пушки. Особенно дымно было у Пашковского, Деревянковского и Кущевского куреней (из последнего происходил сам гетман).
Отшумели казаки, попрятали или пропили добро. Шинков, где пропадали христианские души, в Сечи было немало, и задумались казаки. Собирались иногда у куреней, на майдане, ездили к своим друзьям на недалекие зимовники, благо осень была теплая.
– Не казацкое то дило, голову ломать над тим, шо буде! – выскочил перед «обчиской» люлькой горячий, нестарый казак Игнаций Россолод. – У нас есть ворог, и тут все ясно. Чи у вас серденьки заболели, казаки, по мягким постелям, чи заздрите вы баболюбам та гнездюкам, шо коло своих хатынок осели? А у меня, братия, одна ридна сестричка, ось вона! – И он стремительным движением выхватил из ножен саблю с витой ручкой, подбросил ее вверх, перехватил из руки в руку и лихо вонзил обратно в ножны.
– Бона, панночка наша саблюка, з басурманами не раз зустривалась, не два. Гадаю, об этом нам и надо думать, – закончил он свое слово.
Щербань посмотрел по сторонам. Казаки слушали внимательно, хотя каждый продолжал делать какое-то свое дело.
Один дергал себя за ус, другой укладывал оселедец через левое ухо на правое, третий пришивал на красную свою черкеску гудзык – пуговицу. Два дюжих запорожца с десятиаршинными поясами раскручивались в обратную сторону. Что-то им не понравилось в укладке.
– Игнат, видомо, хоробра дытына. Он, як тот Хвесь, куда схоче, туды и скаче, и нихто за ным не заплаче. А нам по вольности запорожской плакать не хочется, – медленно, как бы откусывая слова, начал черноусый казак, одетый в простую полотняную сорочку, но в острой зеленой шапке со смушковым околышем, с серебряной кисточкой-китицей наверху, которая согласно кивала своему хозяину Миколе Ижаку. – Бачилы вы когда-нибудь, казаки, чтобы старшыны да и сам атаман заводили обширные имения, прибирали к рукам зимовники, стада, сады, рощи, обзаводились работниками? Этого раньше на Запорожье и не слыхивали. Торговлю завели среди казаков. Они уже талеры и карбованцы решетом меряют. А московские полковники прямо в центре Сечи расташувались и все урезают границы Запорожья. Як кажуть до булавы, треба и головы. А до шаблюки тоже, головы не мешае буть, – закончил он, ощупывая колючий якирец, висевший на поясе и бывший для многих казаков неизменным оружием.
Отошел, сел на свою бурку, но потом поднялся и со своего места крикнул:
– Якщо так и далее буде, вольность пропадет, уйду за Дунай, чи на Дон да на Яик. Может, там ще воля есть.
Сказали слово еще несколько человек. Все говорили по-разному, но беспокойно.
– Что скажешь ты, бывалый казаче? – обратились и к Щербаню.
– А то, шо старшину надо заставить уважать запорожские порядки, полковникам не верить, зброю – сабли да рушницы крепко держать в руках, ибо без них мы, як ти бараны. Не то тут говорили некоторые наши добрые казаки. Иль не сидели мы из-за измены проклятого Ивана Мазепы и сорвиголовы Костя Гордиенки на проклятой Туреччине? Мой батько тогда с ними не пошел, заделался на время гречкосием, оженился. Нет, хоть и нелегка служба царю православному, тяжка доля приграничная, и не всегда люба к нам хвартуна, запорожская слава ведома от моря и до моря. Татары перед нами как мгла исчезали, турки уходили восвояси без лошадей, оружия и башмаков. А поляки, подравшись многократно, звали казаков к себе в гости, кумоваться и пировати на ярмарках в Умани и в Черкассах. И без них не смели ходить с хлебом в Очаков и Хаджибей. Бывало, когда кошевой Сирко, – не приминул вспомнить своего любимца Щербань, – наденет свою серую бурку и взмахнет палашом, толпы врагов как не бывало. Нет, мы, запорожцы, здесь и умрем, с земли нашей не уйдем.
Послушали старого казака, помолчали, кто-то недоверчиво покачал головой:
– Но и вольности тоже терять не дило…
И долго еще – всю зиму шли по куреням такие разговоры. Да и не только разговоры, восстала серома казацкая против богатеев старшинских. Многих перебила, но разгромили и ее, а те, кто живы остались, когда ударил Довбыш в котлы и литавры, со всем куренем побежали под свои прапоры и вместе с тысячами своих товарищей с пиками и саблями, рушницами и гарматами были готовы под большой войсковой хоругвью с изображением черного двуглавого орла идти на брань и сразиться с басурманами, врагами Руси и всякого закона христианского. «А со старшиной потом посчитаемся!» – хмуро сказал Микола Ижак. Выехал тогда впереди всего коша, как в молодости, старый Щербань и хриплым, но еще звонким голосом запел:
А атаман тилько свысне,
Вси козаки в луку дзвонять;
А як коня в ногах стысне,
То вси витры перегонять!
НЕОТПРАВЛЕННЫЕ ПИСЬМА
В Каибов век была такая мода на чудеса, как нынче
на аглинские шляпки, и тот дом, в котором не случалось
в неделю по крайней мере два чуда, был так же смешон,
как нынче дом, где не играют в карты.
Иван Крылов. «Каиб»
Дорогая Екатерина Ивановна!
И вот снова я в Средиземном море, но уже не как тортовый моряк, а как военный. Эскадра наша под началом адмирала Спиридова, преодолев многие бури и испытания, пробилась сюда вокруг Европы. Ведь война на суше идет. А с моря Порта нас и не ждет.
В конце января мы, произведя ремонт в кораблях, стали готовиться к десантированию. Где, вначале никто не знал. Я же на линейном корабле «Три иерарха» с фрегатами «Надежда» и «Почтальон» направлялся в милый моему сердцу город Ливорно. Там нас снова премило и радостно встречали, и мы приняли на борт главнокомандующего флотом графа Алексея Григорьевича Орлова. Корабли же наши подали к Морее, где в горах живет отважное племя греков – майноты, которое уже давно против турок восстало. В феврале уже эскадра подошла к портовому городку Витуло, куда сразу пришли тысячи греков, чтобы под флагом нашего отечества выступить на борьбу.
Греческий фрегат «Николай» поднял русский морской флаг, потом к нему присоединился и другой греческий корабль «Генрих». Их славные капитаны Паликути и Алексанио своей храбростью и отвагой любимыми стали. Храбрые легионы из русских солдат и греков очистили от турок часть Мореи, прозванную еще в прошлом Аркадией. Хочу Вам сказать о замечательном и смелом капитане Боркове, с коим я в походе участвовал. Его отряд занял крепость Мизитру и наступал в глубь Мореи. Здесь у крепости Триполицы ему в тыл ударили турки. Греки ушли в горы, а пять русских офицеров и тридцать восемь солдат были окружены пятью тысячами турок. Борков крикнул солдатам: «Братцы, не сдаемся!» И пошел со шпагой и пистолетом вперед. Весь отряд выстроился как небольшой еж и стал пробивать дорогу штыками. Турки во сто крат превосходили русских, но отступили и стали стрелять из-за камней. Капитан Борков был ранен. Осталась половина бойцов. Но оставшиеся в живых несли с собой знамя и командира. Борков пришел в себя и увидел, что живых несколько человек. Капитан взял знамя у тяжело раненного, опоясал им себя и тут был вторично ранен. Из 43 человек в горы прорвалось четверо: дважды раненный Борков, два солдата и сержант Кексгольмского полка. Они и вышли к Каламате, к русским кораблям. Так же сражался отряд Ю. В. Долгорукова, и такой это нагнало страх на турок, что они дрогнули, а греки везде, где можно, против поднимались. В Мокрее их 6 тысяч собралось, в Эпире и Албании 24 тысячи. Это нам рассказали, когда мы 14 апреля прибыли к крепости Корона, а оттуда к крепости Наварин, уже взятой десятого апреля. Здесь, в Наварине, и собрался весь наш флот. Здесь я познакомился с бригадиром морской артиллерии и воином Иваном Абрамовичем Ганнибалом, который командовал десантом и артиллерией, бомбардировавшей крепость. Модону так и не удалось взять, хотя весь полуостров пылал в огне восстания. Наш командующий Алексей Григорьевич Орлов сказал: «Хотя Морея и очищена от турок, кроме крепостей Триполицы, Коринфа, Потрола, но силы мои так слабы, что я не надеюсь не только завладеть всем, но и удержать завоеванное. Лучшее из всего, что можно будет сделать, – укрепившись на море, пресечь подвоз провианта в Царьград и делать нападение морской силою…»
За сим кончаю. Егор Трубин.
…После этого, как ни пытался Егор сесть за письмо, больше трех строк ему написать не удавалось. Хотел он написать своей Катеньке о Чесме, о сем великом сражении, когда весь флот турецкий был уничтожен. Но если говорить правду, то этой великой баталии он и не видел. Помнит только, что вошли они в бухту прямо на турецкие корабли, а дальше был такой пушечный гром и пламень, что упомнить весь ряд боя он не мог, ибо послан был на вторую палубу помогать бомбардирам. А там только дым, пламя и горечь. Виктория была величайшая!
И после этого в каких только местах не побывал он, чего только не насмотрелся. Вроде и до этого повидал немало. Матушка все ахала, когда он про странствия свои поведывал. Не верила, что такие чудеса на свете бывают. Батюшка, повоевавший в Семилетней войне, за границами бывал, но только на севере, в нищей Польше и разоренной боями Пруссии. Поэтому сыну, прибывшему на поправку, не перечил, но, когда тот сильно расходился, ехидно подмигивал, попыхивая трубочкой.
А Егор и сам бы не поверил в то, что с ним произошло. Но было же! Было! Разрубил его проклятый янычар, когда штурмовали они бейрутскую крепость. Собственно, крепость-то уже тогда взяли. И он с небольшим отрядом моряков и солдат шел по улицам, к знаменитому рынку. Там надо было объявить, что торговля разрешается и может идти, как обычно, только без пошлины в турецкую казну. И вдруг у самого рынка невесть откуда выскочил на них обезумевший янычар. Конь под ним вздыбился, и янычар не глядя разрядил в Трубина пистолет, а кривой саблей полоснул его по щеке и ударил по руке. Уже падая и не чувствуя руки, Егор увидел, как на штыках уплывал отчаянный янычар со своего коня. Помнит, как склонилось над ним женское лицо и что-то громко говорил мичман Скорупа.
Через несколько часов он понял, что лежит в глинобитной хижине, а пальцы на руке хотя и медленно, но разгибаются.
Тогда эта черная молодая женщина повела рукой, и ему стало легче и радостней, иголочки закололи в пальцы. Кровь пошла быстрее, и он пытался встать. Она строго улыбнулась и жестом приказала лежать, потом кого-то поманила пальцем. В дверь тихо вошли матрос Никита Михайлов и мичман Скорупа. Егор опять захотел приподняться. Они замахали на него руками: «Лежи! Лежи!» Никита почти шепотом заговорил:
– Вот она тебя выходила. Айсоры, говорит, их народ зовется, а лечит не по-нашему, не шепчет, не заговаривает. Поит травой и руками все машет. – Мичман потрогал усы, махнув головой в сторону айсорки, весело подмигнул: – Я бы тоже у такого лекаря полечился.
Айсорка, казалось, поняла и помахала пальцем перед Скорупой, и он сразу подтянулся, стал серьезным и уже больше не шутил.
– Пришли тебя забирать, Егор. Завтра эскадра уходит в море.
Женщина опять поняла и показала ему рукой, два раза приподняв ладонь кверху, чтобы вставал. Егор боязливо посмотрел и потом решительно приподнялся, сначала на колени, а потом, опираясь на Никиту, выпрямился во весь рост. Он с горечью посмотрел на айсорку и понял, что больше не увидит ее никогда. А она, опрокинув на него взгляд своих черных восточных глаз, подошла, поцеловала, навсегда оставив запах кедра, лаванды и роз, и легкими толчками направила его вперед.
Вечером на корабле Егор приготовил бумагу, взял перо и, написав «Дорогая Екатерина Ивановна!», отодвинул лист в сторону, надолго задумался. И лишь через несколько месяцев продолжил:
«Снова мы в Ливорно. Здесь я увидел женщину необыкновенной красоты. О ней рассказывают всякое. Она же себя считает то дочкой Елизаветы Петровны, то султаншей Селиной или Али-Эместе, то принцессой Владимирской, то госпожой Франк, Шелл, Тремуль. А в Венеции, сказывают, называлась графиней Пив-небрег. Сия таинственная особа то появлялась в Лондоне, то выныривала в Париже. При графе Орлове состоящий чиновник сказывал мне, что на самом деле она дочь пражского трактирщика или нюренбергского булочника.
В Париже она часто бывала у польского посланника Огинского, который в нее влюбился. Князь Лимбургский просил ее руки. Она жила у него в Оберштейне, в его родовом замке, получала из разных стран деньги, вела переписку с разными высокопоставленными лицами. И тут кто-то, а нам неведомо кто, назвал ее наследницей российского престола. Может, то были приближенные французского короля, может, католические монахи, может, польские эмигранты.
Чиновник сказывает, императрица встревожена, так как многие в России зарятся на престол. Нам тут известно, что в отечестве нашем сейчас великий бунт, что содрогаются помещики и купцы, а императрица молится богу и подумывает уехать в Курляндию от мятежного Пугачева, объявившего себя Петром Третьим. Говорят, есть и другие самозванцы. Они объявляются то в Черногории, то в Польше, даже здесь, в Италии.
…Свет мой, прерывал сие письмо, ибо имел особое и важное задание появиться в Рагузе, где объявилась сия Елизавета Вторая. Тот человек, к которому я ездил за пакетом для графа, просил меня передать графу, что это французское дело. Ибо она в Венеции жила в доме французского резидента, а в Рагузе – в доме французского консула, который оказывал ей почести как русской принцессе. Почему французы, я и не понял. Вот и польские конфедераты, сам Радзивилл ее сопровождают. Пишу Вам и не знаю, что со мной происходит. На балу в доме у знатного рагузского вельможи, куда я был неожиданно приглашен, она летала как бабочка краснокрылая, веселая и красивая. И вдруг, по чьему-то, наверное, наущению, остановилась возле меня, склонила голову и спросила по-французски: «Ну, а вы, молодой русский моряк, будете служить дочери Елизаветы?» Я ответил по-русски: «Я служу императрице и Отечеству». Она растерялась, оглянулась, и я понял, что надо перевести. Гордо и царственно посмотрела она на меня тогда и сказала, что скоро поедет в Константинополь и оттуда завладеет короной.
…Милостивая государына Екатерина Ивановна, долго не писал, закружило и унесло меня сейчас к Вам. Еду я на корабле контр-адмирала Грейга в Кронштадт. Случилось событие позорное и постыдное. Граф Орлов, вместо того чтобы все сделать честно и благородно, пригласил несчастную мнимую принцессу в гости, наделил ее деньгами для расплаты с кредиторами, прикинулся страстно влюбленным, заманил ее вначале во дворец в Пизе и на корабль, где продолжал прикидываться и ухаживать. А потом – стыд и позор! – арестовал ее.
Не принцесса русская она, не говорит по-русски. Говорит, что дочь гетмана Кирилла Григорьевича Разумовского, между тем как его брат был любим Елизаветой. Но разве можно любовь и честь заложить за сумнительную победу над дамой? Я все сие сказал графу, хоть и неровня дворянин дворянину, судьбою вознесенному. Он закричал на меня, потом пригласил в кабинет, вытащил бумагу и назвал: «Се ответ императрицы на мое послание ей о самозванке». Это послание я запомню на всю жизнь.
Императрица графу советовала, если возможно, приманить самозванку в такое место, где ловко посадить ее на наш корабль и отправить ее за караулом в Петербург. «Буде же она в Рагузе гнездиться, то я Вас уполномочиваю через сие послать туда корабль или несколько с требованием о выдаче сей твари, столь дерзко на себя всклепавшей… – прочитал граф. – В случае непослушания дозволяю Вам употребить угрозы, а буде и нападение нужно, то бомб несколько в город метать можно, а буде без шума достать способ есть, то я на сие соглашаюсь. Екатерина».
Я не знал, что графу отвечать, сказал только, что под его началом не хочу служить более. Граф почему-то более не сердился и приказал отъезжать с кораблем Самуила Карловича Грейга в Кронштадт.
…Не знаю, допишу ли я свое письмо к Вам, дорогая Екатерина Ивановна, но встретил я еще раз на сием корабле эту принцессу Елизавет. Мне перед этим один моряк шепнул, что едет с нами тайно княжна Тараканова. И вот увидел я ее у каюты, и она быстро-быстро заговорила по-французски и просила помочь ей бежать. Я стоял молча, опустив голову, и она с горечью заметила: «Понимаю, вы тоже пленник…» Ее увели, а меня вызвал Самуил Карлович и сказал, что-де почитает меня за человека честного, блюдущего дворянское достоинство, но общаться с сией особой запрещено и знать о ее прибытии в Кронштадт никто не должен. И я понял, что письмо это я Вам, дорогая Екатерина Ивановна, не отправлю…
Егор».