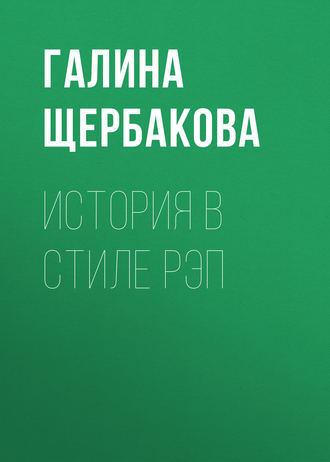
Галина Щербакова
История в стиле рэп
– Врач, немец, – говорю я. – Спасал и лечил русских. Особенно тех, кто в тюрьме. Это он сказал: «Спешите делать добро».
– Не надо, женщина, не надо! – это кричит шейка бедра. – Что, у нас русских врачей нет? Вам для примера обязательно немец нужен или еврей? Других нет?
Тут-то и пискнула с кровати древняя бабулька, тоже шейка бедра.
– Девки! Подайте, Христа ради, утку. Уже невтерпеж.
Баранья косточка пошла к дверям и стала звать сестру.
– Да сунь мне утку под одеяло, милка! – кричала бабка.
– Вот вонищи сейчас будет, – сказала женщина-телевизор.
С кровати встала девчонка с «фишкой» и направилась к бабке. Но было уже поздно. Все случилось.
Как же они все орали! Как кляли бабку! Какие проклятия слали они ей на голову!
Воспринимаю ее поношение как личное. Ибо уже знаю: сгусток ненависти, нацеленной именно в меня, существует. Поэтому я в этом крике и этой вони. За что, дочь? За что?
Я отвернулась, потому что из меня хлынули слезы, первые – и даже за много лет. Я ведь неплачущая природа. Последний раз я плакала на похоронах Сахарова. И то, скорей, из-за музыки.
– Вот вам пример русского. Сахаров, – отвечаю я на вопрос, о котором в крике уже все забыли.
– Сахаров – Цукерман, – говорит мне баранья косточка.
Ну, тут уже ни охнуть, ни вздохнуть.
Все ходячие выходят в коридор, пока проветривается палата, оставшиеся завязывают лица полотенцами. Я встаю первый раз. Это мой третий день в больнице. Старушка же чувствует себя, как ни странно, героиней. Она смотрит на всех молодо и мстительно.
– Вы, как я догадываюсь, не согласны, – спрашивает меня уже в коридоре баранья косточка, – что Сахаров – Цукерман?
– Давайте закроем тему. Я ненавижу антисемитов.
В этом все дело – в тоне. Видимо, я сказала так, что она отпрыгнула от меня, иначе не назовешь скорость ее перемещения. Я же вернулась в палату. Там было одновременно холодно, душно и воняло. Слои воздуха не смешивались. В них можно было передвигаться из одного в другой, моя койка была в центре холода.
– А у тебя что? – спросила облегчившаяся бабка.
О русская простота, вконец освобожденная от глупостей приличия, простота тюрьмы, больницы, очереди, где все сразу и братья и сестры, но и враги заклятые. Я люблю думать эту мысль, но сейчас мне надо ответить на вопрос.
– Я сломала ключицу, – говорю я.
– Упала, что ли?
– Упала, – отвечаю.
– Ключица – ерунда, – говорит бабка. – От нее в человеке ничего не зависает. Рукой же шевелишь? Шевелишь. Есть кости важные, а есть глупые. Твоя болезнь никакая, зря занимаешь место. Знаешь, сколько сейчас валяется на земле со сломанными руками и ногами? А места им нет. Правильно?
– Я завтра выпишусь, – говорю.
– И не думай, – слышу я голос дочери, она вошла и оглядывается.
– Ну и запах! – возмущается она. – Тебя из огня да в полымя, так, что ли?
– Это больница, дочь моя! – говорю я ей, а про себя отмечаю совсем другое: она хорошо, авантажно выглядит, глаз с искрой, румянец… Наверняка кто-то ждет ее внизу.
– Сломанная ключица – ерунда, – сигналит моей дочери с места бабка, – стоишь на ногах, и рука вполне живая, а если шейка бедра, то обделаешься…
Дочь смотрит на меня, глаз ее лукав: вот какую ты, мамочка, придумала для народа лжу… Сломанную ключицу. За тобой не заржавеет. В этом деле ты мастер.
Мне не надо слов. Я ведь хорошо знаю подтекст слова «мастер».
Накануне ее выпускного сочинения у меня случился поздний аборт. Была до этого мысль оставить ребенка, муж очень хотел, но оказались не те анализы, и возраст – сороковик, мало ли что? Меня тогда тошнило, и я объясняла дочери, что это аллергия на раннюю вспученную на подкормках клубнику.
– А у меня, слава богу, нет! – говорила она, подъедая за мной как бы вредную мне клубнику.
– У людей разные природы, Инна, – глупо говорил ей отец.
Я же тогда решила быть более убедительной, я соврала ей, что, возможно, у меня внематочная. «Папа не в курсе». Ну, вот спросите меня сейчас – зачем? Я охраняла ее, сдающую экзамены, от неожиданности моей госпитализации и решила, что внематочность выглядит красивее, чем аборт от неуверенности в доброкачественности плода.
Через какое-то время она узнала правду. Это такое свойство правды – в конце концов объявиться и сказать: а вот и я! Тогда она мне и выдала:
– Теперь каждую твою убедительную сентенцию я буду ставить под сомнение.
Слово «сентенция» звучало особенно противно.
– Деточка! – сказала я.
– Я не деточка, – отрезала она. – Пока я член этой семьи, я должна знать правду о ней. А может, я хотела брата или сестренку…
– Хорошо, – сказала я.
– Ты быстро соглашаешься. Что ты на этот раз хочешь от меня скрыть?
И я ей, как дура, говорю про анализы. Но она слушает вполуха. В сущности, правда ей неинтересна. Она, как строптивая лошадь, дала хозяину себя обуздать, чтобы потом скинуть его к чертовой матери.
Поступив в институт, она стала норовистой лошадью. Откуда что взялось… Не просто дерзость, а дерзость с издевкой, не просто непослушание – вызов. Мы с мужем оробели.
– Она мне чужая, – говорил мне шепотом муж. – Чужая, и все.
А я взвизгивала от гнева на него: как ты смеешь? Как ты можешь не просто сказать – подумать это?
Это все бегом проскакивает по моим извилинам, пока она брезгливо оглядывает коммунальную палату.
– Ну, тебя и запроторили!
Это мое словечко. Я радуюсь, что в ней от меня останется запас вкусных русских и украинских слов. Я так радуюсь ее (своему) выражению, что прощаю эту надменную, презрительную «морду лица».
– Меня через пару дней выпишут, – говорю я. – На перевязки буду ходить в поликлинику.
– А как же? Сколько безногих и безруких на земле лежит! – опять влезает в разговор бабка. – Нечего занимать место, если всего ключица.
– Я никого не видела на земле, – грубо отвечает ей дочь.
– А такие, как ты, поверх голов смотрят. Вам земля – грязь.
– Ладно, ладно, бабушка, – говорю. – Не напрягайтесь.
Народ возвращается в палату. Мне приятно, что Инку оглядывают с интересом, мне приятно, что у меня красивая дочь.
– Выйдем, мама, – говорит она.
Мы пристраиваемся у подоконника.
– Какая-то дура со второго этажа сказала, что видела в то утро меня, как я выходила из подъезда, – говорит она мне со смехом. – В шляпе, мол, и в черном пальто.
– Тебя? – говорю я сипло и фальшиво.
– Представляешь? Этот твой народ может сказать что угодно. Я, мол, пришла и стрельнула в тебя… (Господи, почему он мой, этот народ?)
– Так и говорят? – бормочу я.
– Нет, я так домысливаю их показания. Домысливаю пальто и шляпу.
– Да, – говорю я уже спокойно. – Но пальто и шляпа были на мужчине.
– Ну? А этой суке с балкона показалось, что я.
– Не бери в голову, – говорю я. – Ты же была в бассейне.
– Вот именно. Но противно. Взяла и ляпнула. Отец, между прочим, перепугался…
– Чего?
– Спроси сама. Но глаз у него заполошенный.
(Спасибо, господи. Это тоже мое выражение. Нет, вся я не умру…)
Она мне говорит, что, если меня станут задерживать в больнице, надо будет поискать место в другой, поприличней.
– Моя соседка, ты знаешь ее, бывшая райкомовка, обещала поузнавать по старым каналам. Конечно, мама, бесплатно только это. – Она кивнула на дверь палаты. – Все другое имеет цену. Ну что мы – из бедных бедные?
– Брось, – говорю я. – Если так встанет вопрос, конечно, найдем деньги. – Это вранье. И мужу, и мне платят очень нерегулярно, но у нас – это правда – есть НЗ. На всякий случай. Разве мой случай – не «всякий»? – Но я думаю, меня выпишут. У меня все хорошо заживает. Как на собаке.
– Ну, слава богу, – говорит она. – А то мне твоя палата будет сниться.
Она обнимает меня крепко и нежно. Этот силуэт через матовое стекло, конечно, не ее. Это моя больная душа сыграла со мной подлую шутку. Эти руки не могли поднять на меня оружие.
Я вернулась в палату, где бурно обсуждали мою дочь. В кого это она такая вся из себя? Мать – простая женщина. Отец тоже, скажем, никакой. Так вот, открытым текстом – у нашей пары такого калибра девушка родиться не могла.
– Не скажешь, что ваша, – говорит левша.
– Наша, – отвечаю я. – В мужнину родню.
Они задумываются. Их свободные здесь, в больнице, от других проблем извилины создают родню худого и неказистого с виду пожилого интеллигента. Конечно, все на свете бывает, думают они. Случайный поворот крови, непредсказуемый выбрык генов, или как они там называются. Они вздыхают то ли по поводу неслучившегося чуда с ними, то ли завидуют возникшей перед ними чужой красивой молодости, у которой впереди все, а у них ничего. Непонятна мне только девчонка-фишка, ей-то чего вздыхать? Вполне хороша. Но поди ж ты…







