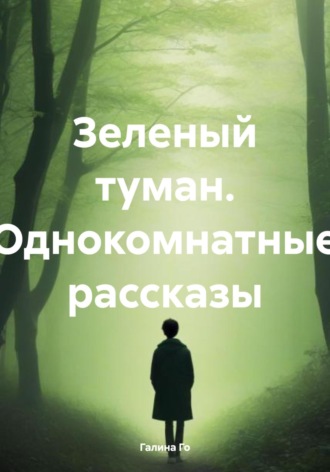
Галина Го
Зеленый туман. Однокомнатные рассказы
Флешбек
Очень тихо и ни ветерка.
Снежные хлопья приземляются отвесно, опушая совершенно-сказочную шкатулку нашего двора.
Мне лет восемь. Я стою в проеме подъездной двери.
За моей спиной кособокая лесенка на второй этаж, ярко-синие стены и кривоватые металлические перила. Собственно они и делают лесенку кособокой.
Там, на втором и последнем этаже малюсенькая трехкомнатная квартирка, в которой самая маленькая комната – родителей, где помещается их полуторная кровать и стул; а самая большая – гостиная. В ней целых два окошка и метров пятнадцать.
Сейчас в крохотной прихожей мама одевает капризничающую Нюшу – младшую сестру – в красное шерстяное платье с помпонами. Нюшка его терпеть не может – оно колется.
Мне мама велела выйти во двор, а то я запарюсь в шубе. Светло-серая каракулевая шуба с ондатровым воротником из старой папиной шапки и, правда, очень жаркая.
Спустившись во двор, я замираю от невероятной красоты, тишины и белизны. Обычно наш замкнутый домом двор больше похож на коробку. Попасть в него можно через арку.
Когда-то прямо из этой арки можно было попасть в нашу коммуналку, но однажды, когда Нюша была ещё совсем маленькой, мы проснулись ночью от её крика: «Мама! Зяко!»
Оказалось, что прямо над её кроваткой из стены вырвался фонтан горячего пара. Под нашими комнатами лопнула какая-то теплосеть. Нас быстро переселили в отдельную пустующую квартиру другого крыла дома. Потом мама всегда говорила, что это была самая счастливая квартира в её жизни. Вот откуда я вышла!
Двор был именно шкатулкой, убранной изнутри белым бархатом снегов. Летом, когда коробка двора делилась на две части, здесь было голо и пыльно, потому что пол двора было заасфальтировано, а вторая половина была вытоптанной землёй, где даже трава не росла, почему-то. Посередине торчала деревянная беседка, со сломанными скамейками и частично выбитыми досками.
Но в этот момент она была похожа на сказочную избушку, возможно даже на дворец, потому что шесть брусов, на которых держалась ржавая покореженная крыша укрытая снегом, могли вполне сойти за колонны. Снег усиливается. Теперь он именно падает и довольно стремительно, а хлопья выглядят ещё крупнее и пушистее. Потоптавшись перед невзрачным каменным крыльцом в две ступеньки, поразглядывав собственные следы я иду на качели.
Никаких других аксессуаров детской площадки в нашем дворе не водится. Покосившиеся качели и полуразрушенная беседка.
Усевшись на металлическую скобку и упираясь ногами, я слегка покачиваюсь. Качели тихонько поскрипывают, а снег снова становится редким и медленным. Снежинки, кажется, просто плавают, как рыбки в аквариуме. Я смотрю на снег и думаю, как бы запомнить эту минуту: как медленно кружась белые хлопья опускаются мне на коленки и рукава…
Летом, сидя на этих качельках, я придумывала игру. С моей ровесницей соседкой Леной мы рисовали на земле палочкой коридоры и комнаты дворца вокруг беседки, представляя, как мы здесь живем. Когда ж мы все придумали и нарисовали, нам почему-то стало уже неинтересно играть, как будто самое главное мы уже прожили. Мы стояли в растерянности и очень кстати мамы позвали нас обедать…
В беседке, несмотря на её неказистость, конечно был бальный зал, а здесь у качелей – фонтан, а чуть дальше – парк и озеро. Теперь всё под снегом и я думаю, что на праздничный дворец вполне похоже.
Сейчас выйдут мама, папа и Нюша и мы поедем к бабушке с дедушкой на «Филевский парк». Дойдем до станции «Смоленская», спустимся в метро… потом поезд из тоннеля выскочит на мост над Москва-рекой, и опять нырнёт в тоннель, а после Киевской снова окажется на улице. И будет видно, как идет снег. Крупный и пушистый. Такой же задумчивый и красивый, как во дворе…
А может, другой. Ведь такого сказочного и тихого, наверное, больше нигде быть не может…
А когда бабушка с дедушкой пойдут нас провожать домой, они встанут у перил, и будут махать нам, а мы снизу, с платформы, помашем им в ответ, потому что станция «Филевский парк» – открытая.
Сидя на качелях, я думаю о том, о сём, вспоминаю лето, представляю, как мы будем гостить у бабушки с дедушкой…
И я могу представить себе всё, что угодно, одного только не представляю, что когда-нибудь кого-то из моих любимых не будет рядом, что может наступить время, когда не будет этого двора во втором Смоленском переулке…
Но сейчас очень тихо и ни ветерка! Снежные хлопья приземляются медленно и отвесно, в сказочной шкатулке двора моего детства. И мне восемь лет.
Раны
На улицах появились георгиевские ленточки. Они трепыхались на машинах, на одежде людей и сумочках женщин. Ночью по Тверской скрежетали танки, репетируя парад. Май был на редкость теплым, и Москва зажила уже своей летней жизнью. Даже поздним вечером город был полон гуляющими. Многие специально дожидались репетиции парада.
Все это наблюдала бабушка Катя из своего окна, выходившего прямо на Тверскую. Катя любила 9 Мая с детства. С того самого дня когда папа объяснил ей, что 25 лет назад благодаря людям с медалями, и ещё множеству других людей, которых больше нет (как двух её дедушек и одной из бабушек) закончилась ужасная война.
– Поэтому все мы: и ты, и мама, и я, и наша бабушка, и друзья видим солнце, можем быть вместе, жить и радоваться, – сказал папа.
А Катя заметила, как наполнились слезами его глаза, хотя в детском садике их учили, что мальчики плакать не должны.
В тот день вместе с родителями, их друзьями с детьми и ведром красных гвоздик, Катя пошла на прогулку. В городе было много людей с орденами и медалями, и хотя каждому ветерану вручался только один цветочек, примерно через час ведро опустело, а вся компания направилась в Сокольники, чтоб пообедать в ресторане «Фиалка», где у папиного друга был знакомый официант. Иногда Кате казалось, что она до сих пор слышит поскрипывание пустого металлического ведра. Никаких ленточек тогда нигде не наблюдалось.
Часто взрослые заговаривали о возможной новой войне. Маленькая Катя была абсолютно уверена, что всем же понятно, что это плохо и страшно, а значит, никакой войны не будет.
Взрослой Кате – теперь уже бабушке, тоже очень хотелось бы верить, что разум восторжествует, но вся её жизнь доказывала противоположное.
После чудовищно тяжелых лет, начинавшихся с энтузиазмом и названных «перестройкой», Катя обрадовалась, что День Победы снова стали праздновать. Вроде какая-то связь возникла с прежними временами. Тогда было много всего гадкого, нечестного, показушного и глупого, даже подлого, но все же люди, в большинстве своем казались добрыми и чистыми. Можно было выпустить детей одних на улицу и не опасаться, что кто-нибудь их обидит, а тем более украдет или ещё что похуже.
Возникновение Георгиевской ленточки, как символа памяти для Кати и для многих её соотечественников – означал, что «никто не забыт и ничто не забыто», как писали строчкой Ольги Берггольц на плакатах в её пионерском детстве. И тут началось!
«Спасибо деду за Победу!» превратилось в «Можем повторить». Почему-то в противовес «Бессмертному полку» возник «Бессмертный барак». Почему в противовес? Катя не понимала. Ей всё казалось, что самое справедливое, что может быть для истории и будущих поколений – чтоб эти «бессмертные» прошли вместе, а люди помнили, чего нельзя никогда больше допускать. Чтоб никогда не забыли…
Сегодня Катю ждал приятный вечер. Из Германии, куда эмигрировала как раз во время перестройки, приехала её школьная подруга Олеся. Вечером планировалась встреча.
Катя накрыла небольшое застолье – любимый салат, нарезанные овощи, колбаска и ветчина были красиво расставлены. В духовке "подходило" мясо по-французски. На огромном овальном столе, покрытым белой скатертью; под мощной настольной лампой, прямо посередине; красиво светились хрустальные бокалы, и матово темнела бутылка красного грузинского вина, только вчера привезенная сыном из такого далекого теперь Тбилиси.
Старинная квартира сплошь была увешана картинами и портретами. Один из братьев Катиного деда, навсегда оставшийся где-то под Ржевом, был художником.
Тяжелая входная дверь еле отражалась в громоздком мутном зеркале прихожей и как будто ждала гостей. На бра возле него, ещё год назад, была прицеплена Георгиевская ленточка, которую Кате вручила у метро девушка в военной форме. Всем раздавала.
Крякнул звонок, и в открытую дверь радостно и шумно ворвалась Олеся. В её руках пылал букет красных гвоздик. Катя улыбнулась.
– Боже, – воскликнула вошедшая, сунув цветы хозяйке, и оглядевшись – ничего не изменилось!
– Проходи, дорогая, – улыбнулась Катя и обняла подругу, прижав к груди заодно и букет, оказавшийся между ними.
– А это что? – взревела Олеся и отпрянула от Кати, тыча пальцем в Георгиевскую ленточку на бра.
– Праздник же, – потупилась Катя, и в доказательство махнула гвоздиками, – ты же не забыла? 9 Мая сегодня? 70 лет!
Олеся, всплеснув руками, схватила ленточку и бросила на пол:
– Ты с ума сошла, развешивать этот символ агрессии?
– Почему агрессии? – спросила Катя, поднимая ленточку, – просто памяти.
И так и стояла: в одной руке букет – в другой черно-коричневая лента.
– Ты что, действительно не понимаешь? Да это все равно… все равно, что свастику повесить!!!
– Но почему? – чуть не плача вопрошала Катя.
– Потому что Россия сегодня – главный агрессор в мире. Ты посмотри, что делается! Крым, Украина, Сирия, Донбасс! Вы тут что? Правда, все ватники. Не ожидала! Катя, ты – вата?
– Я не понимаю, Олесь, что это значит? Какая вата?
– Ты что, только ящик смотришь? Манкурты на марше!
Олеся говорила что-то ещё. Много. Яростно. Распекая Катерину, совсем как в юности, когда поучала её как надо себя вести и одеваться. Но тогда Олесины нападки только веселили Катю, а сейчас почему-то рассердили. Катя никакой ватой себя не считала, и обвинений в том, что она оболваненный «манкурт» тоже слушать не хотела.
– Знаешь что, – сказала она подруге, которую не видела много лет, – ты, пожалуйста, замолчи, давай про что-нибудь другое поговорим?
– Нет, вы посмотрите на эту зомби, – не унималась гостья.
Катя опустила голову. Некоторое время продолжала слушать весь этот поток увещеваний, осуждения и ругательств, потом, молча подняла глаза, и, сунув так и не поставленный в вазу букет обратно, спокойно сказала:
– Спасибо. До свиданья.
Олеся на минуту запнулась, а потом стала пятиться. Катя надвигалась на неё, выжимая из квартиры.
– Знаешь, Олесь, твои ведь тоже… ведь война – это бедствие, и разве мы её начали?
– А ведь могли! Союзнички! – Олеся, пыталась устоять.
– Были потерявшие человеческий облик и у нас, не только геройство, теперь мы знаем, но виноват кто? Деды наши, защищавшие свою землю? Кто? Кто придумал все это? Кто внушил людям, что одни почему-то могут быть лучше других? За всех знать, что правильно?
Олеся, чуть не упала, споткнувшись на самом пороге, и схватилась за дверной проём. При этом букет случайно, но остро хлестнул Катю по лицу. Гвоздики выпали и, падая, поломались.
– Хватит уже со всем этим носиться! – сказала Олеся и перешла порожек, – Вы все тут ненормальные! – добавила она и пошла к лифту. Хозяйка захлопнула дверь.
***
Катя прошла в комнату, посмотрела на не дождавшийся радостного праздника стол и тяжело села на стул. Заныло сердце. В руке стыла георгиевская ленточка. Катя положила её на край стола и принялась как-то бессмысленно разглаживать обеими ладонями, глядя на портреты своих погибших родных и переводя взгляд в окно.
***
Возмущенная Олеся, не в силах дождаться лифта, сердито перебирая ногами, спустилась на один пролёт и, споткнувшись и подвернув ногу, чуть не упала. Еле успела за перила ухватиться. Тяжело, совсем как Катя в квартире, опустилась на ступеньку.
*** – Что ж это такое, – тихо плакала Катя, сидя за столом, – зачем так-то?.. Выгонять!
***
– Нехорошо как… – подумала Олеся, – ну, Бог с ней, с ленточкой…
И вдруг она вспомнила, как всего неделю назад, дома в Дюссельдорфе её взрослая дочь на замечание, что, мол, она никого не хочет слушать, и считает себя самой умной, посмотрела на мать с вызовом и спросила:
– Или ты?..
Олесю как ударило тогда. И показалось, что да, узнаёт она себя в своей своенравной дочери. Есть в кого быть ей и такой резкой, и такой не терпящей возражений.
***
Ну что я, Олеську не знаю… надо было её отвлечь чем-то… рассмешить… – корила себя Катя, не замечая запаха подгорающего мяса – ведь вряд ли встретимся ещё…
***
– Ведь, может, и не увидимся больше… – резануло Олесино сердце…
Посидев несколько минут, она поднялась и уверенно пошла наверх. Немного болела подвернутая нога. Олеся подошла и почему-то робко остановилась перед Катиной дверью.
Несколько придавленных цветков алели в створе как раны…



