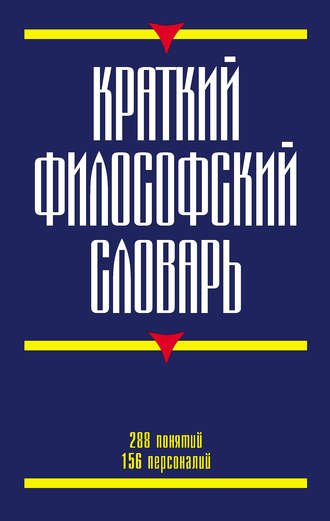
Г. Г. Кириленко
Краткий философский словарь
П. Рикер видит проявление онтологического значения интерпретации в изначальной конфликтности типов интерпретации, соответствующих бытийным координатам человеческой деятельности. Сама «деятельность расшифровки» человеческого поведения не отделена от человеческого существования; расшифровывая символы мира бессознательного, мира желаний, человек уже принимает или не принимает желание как основу воления как «деятельности по его воплощению». Тем самым, обращаясь назад, воля придает окончательный смысл бессознательному, миру влечений. Но воля также обращена вперед, к выходу субъекта за собственные границы, воля ведет к трансцендированию, к реализации цели. Конфликтность интерпретации проявляется в дуализме символов, организующих человеческую жизнь. Расширение пространства интерпретации, «сплавление горизонтов» (Гадамер), попытка введения универсального контекста мира сакрального (Рикер) позволит гармонизировать человеческое бытие.
«ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ КРУГ» – циклический характер процесса понимания. Еще Аврелий Августин уловил особенности Г. К.: «верить, чтобы понимать». В Г. К. выражена взаимообусловленность различных познавательных процедур – объяснения и понимания: чтобы понять что-то, необходимо объяснить его, но чтобы объяснить, необходимо сначала понять. К проблемам, возникающим в связи с появлением Г. К., обращались Ф. Шлейермахер и В. Дильтей. Традиционно Г. К. рассматривался в качестве доказательства ограниченности человеческой познавательной способности: понять целое – это понять его части, а понимание частей невозможно без понимания целого. Наши предрассудки, предвзятые мнения предшествуют пониманию и определяют его. В результате, пытаясь проникнуть в мир другой эпохи, мы опять возвращаемся к себе.
Х.-Г. Гадамер несколько по-иному смотрит на Г. К., используя понятие дистанции, классического, традиции, предрассудка. Человек всегда «находит» себя в определенном месте, он смотрит на прошлое из какой-то определенной временной точки. Эта точка «прикрепления ко времени» выражается в «предрассудках» – привязанности к определенной традиции жизни и мысли. Понимание включает не только предрассудок собственной значительности в истории, но и дистанцию – переживание отстояния себя во времени от прошлого. Кроме того, существует еще и «предрассудок завершенности» отношения к прошлому как к законченному, свершенному, тому, что уже «сделано» и что нельзя изменить, исправить.
С помощью этих предрассудков человек укоренен в бытии, понимаемом как время. «Круг понимания, таким образом, вообще не является «методологическим» кругом, он описывает онтологический, структурный момент понимания». Понимание – это обнаружение себя во времени, неподвластном мне. «Предрассудок завершенности» выражает неизменность прошлого. Предрассудок отстояния, дистанции – это дискретность времени, его прерывность, выраженная в чувстве настоящего. Традиция, связывающая уже свершенное и настоящее, есть форма преодоления разрыва, форма связи времен. Свершенное присутствует в нашей жизни уже не просто в качестве классического – мертвого, безвозвратно ушедшего, утраченного, но в качестве истока, начала. Будущее выступает как «сплавление», слияние горизонтов прошлого и настоящего в рамках более значимого целого. Г. К., таким образом, не является кругом, он открыт, разомкнут.
ГЕРЦЕН Александр Иванович (1812–1870) – русский философ-материалист, революционный демократ, писатель и публицист. Мировоззрение Г. сформировалось под влиянием философии Шеллинга, Гегеля, Фейербаха, позитивизма О. Конта, французских социалистов Сен-Симона, Фурье, Прудона. Основные сочинения: «Дилетантизм в науке», «Письма об изучении природы», «О развитии революционных идей в России», «С того берега», «Концы и начала», «Письма к старому товарищу», «Былое и думы» и др.
В произведениях 1832–1847 гг. Г. стремится найти метод познания, адекватный действительности и воплощающий в себе единство противоположностей природы и человека, материи и сознания, чувственного и рационального, опыта и спекуляции, эмпирии и идеализма. По мнению Г., «история мышления – продолжение истории природы… Законы мышления – осознанные законы бытия». Отсюда вытекает единство онтологии и гносеологии. Свою позицию Г. определяет как «реализм», в рамках которого философия призвана давать общие принципы для построения специально-научных теорий, указывать им направление исследования, предвосхищать их результаты. Выводя логику мышления из развития природы, Г. сталкивается с «неуловимым и непонятным» – со случайностью. «не вытекающей из понятия предмета». Поэтому трагедия человека и заключается в непримиримом разногласии изначальных запросов его духа со слепой природой и властью случая. Именно поэтому «мир живет кое-как… и ищет не устроиться, а забыться». Чтобы «устроиться» человеку в этом мире, необходимо вписать его в историческое бытие. Так появляется основная тема творчества Г. – личность и философия истории.
Алогизм природы и истории укрепляет Г. в антропоцентризме. «Смыслы мира дремлют в душе каждого… Вне нас всё изменяется, всё зыблется… и мы не сыщем гавани, иначе как в нас самих, в сознании нашей беспредельной свободы, нашей самодержавной независимости». Так из признания «омута случайностей, в который погружена жизнь человека», вырастает концепция, утверждающая нравственную самобытность, свободу и достоинство личности, стоящей выше всякого бытия. «Личность – вершина исторического мира, к ней всё примыкает, ею всё живет… Пора догадаться, что в природе и истории много глупого, неудавшегося, спутанного». Поэтому «подчинение личности обществу, народу, человечеству, идее есть продолжение человеческих жертвоприношений». Г. постоянно обличает алогизм «потока» исторического бытия, повторяясь, пишет о «растрепанной импровизации истории», которую необходимо привести в гармонию, потому что он обуреваем мечтой об идеальном строе, обеспечивающем возможность полноценного развития каждому на земле «здесь и сейчас», а не в далеком будущем.
Преданность идее человека и человечества, невозможность осуществить ее в России влекли Г. на Запад. Непосредственно столкнувшись с французской буржуазной революцией 1848 г., он убеждается в утопичности и беспочвенности своих мечтаний. Из убежденного западника Г. становится страстным антизападником. Разочарование в революции не привело его к отказу от его идеала, но окончательно подорвало веру в закономерное движение истории, в прогресс. «Современное поколение имеет одного Бога – капитал… Наше время эпоха восходящего мещанства… В демократии – страшная мощь разрушения, но когда она примется создавать, она теряется в ученических опытах, в политических этюдах… Действительного творчества в демократии нет». Его резкая и достаточно односторонняя критика Запада связана с утверждением идеи личности, противоположной буржуазному идеалу: всё переменилось в Европе. «Рыцарская честь заменилась бухгалтерской честностью, изящные нравы – нравами чинными, вежливость – чопорностью, гордость – обидчивостью, парки – огородами, дворцы – гостиницами, открытыми для всех. Все хотят казаться вместо того, чтобы быть».
Сознание бессилия «чистого разума», стремящегося к истине, не имеющей обязательной силы над действительным миром, очевидность мнимого решения проблем исторического бытия в гегелевской философии истории завершают перелом в историософских исканиях Г., для которого «вихрь случайностей», определяющий социально-историческое бытие, трансформируется в философию возможного. «Ни природа, ни история никуда не ведут и потому готовы идти всюду, куда им укажут, если это возможно». Категория возможности помогает Г. построить учение о том, что Россия «может», минуя капиталистическую фазу развития, сразу перейти к осуществлению социалистических идеалов. Тема своеобразия «русского социализма» становится для Г. главной.
В отсталости России, в ее «свободе от тяжести всемирной истории» Г., как и Чаадаев, видит ее великое преимущество при решении социальных проблем. В русском народе, по мнению Г., есть задатки общности, возможного братства людей, которого уже нет у западных народов. Совершенно по-славянофильски, но без их религиозной терминологии Г. объясняет возможные перспективы будущего русского народа из преимуществ уклада жизни крестьянской общины. Общее владение землей, общинное самоуправление, право каждого индивида на землю, по Г., имеют большую ценность для социалистических перспектив, нежели политическая и социальная развитость Европы. Определенные черты русского характера (пластичность, способность усваивать современные достижения Запада, стремление к гармонизации теории и практики, энергия и изобретательность в военной и политической областях) также будут способствовать скорейшим преобразованиям в России.
Отмеченные мыслителем положительные черты и недостатки (пассивность, смирение, женственность, недостаток индивидуальности и т. п.) много позже станут основой для разработки концепции нации и русского национального характера в трудах Питирима Сорокина и Н. Бердяева.
Набольшие трудности испытывал Г. при решении проблемы «личность и общество», пытаясь соединить принцип общественности с принципом личности и ее свободы. Спасение Г. видит в русском мужике, который соединяет в себе личное начало с общинным. Веря в крестьянский мир, общину, Г. философски не разграничивает понятия индивидуума и личности, которая для него противоположна эгоистической замкнутости и возможна лишь в общиннности. Однако из признания самоценности человека, жизни поколений, которыми нельзя жертвовать во имя идеалов будущего, рождалась новая тема – тема конфликта между личностью и обществом, которая станет одной из главных в творчестве Л. Шестова и Н. Бердяева.
Идея «русского социализма» для интеллигенции России надолго стала стимулом обращения к мужику, «хождения в народ», народнического движения. Аграрный социализм артели, этический социализм Г. был полярен революционному марксизму, возлагавшему надежды на рабочих и пролетариев. Быть может, это и было причиной достаточно прохладных отношений между двумя величайшими мыслителями эпохи – Г. и Марксом. До конца жизни веря в будущее социализма, Г. никогда не рассматривал его как совершенную форму общественных отношений. В конце жизни, настаивая на постепенности общественного развития, мыслитель подчеркивал, что для социального создания необходимы «построяющие» идеи, распространение просвещения, совершенствование познавательной деятельности и развитое народное сознание: «Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены изнутри».
ГЁТЕ Иоганн Вольфганг (1749–1832) – немецкий поэт, мыслитель, ученый. Большое Веймарское издание его сочинений включает 143 тома, количество стихотворений, им написанных, – 3150.
Г. – энциклопедист. Круг его интересов: философия, эстетика, культура, биология, ботаника, зоология, анатомия, химия, минералогия, геология, метеорология; он создатель сравнительной анатомии, современной морфологии растений, физиологической оптики. Его открытие межчелюстной кости позволило подвести человеческий организм под общую морфологическую схему высших позвоночных животных. Его труд «Попытка объяснить превращение растений» следует рассматривать как первый опыт обоснования биологической теории. Исходя из предположения, согласно которому всякий организм состоит из органических частей, Г. пытается проследить дифференциацию основной жизненной формы. Так родилась новая наука – сравнительная морфология, которую затем сильно продвинула вперед теория Гёте и Окена, рассматривавшая череп как скрытый позвонок. Благодаря открытиям Г. всё более укреплялась догадка о том, что весь органический мир в последовательном ряду своих форм представляет собой единый великий процесс развития, которому подчинены не только индивидуумы, но и виды. В основе всех ступеней развития как индивидуума, так и природы в целом лежит один и тот же общий закон эволюции.
Живо интересуясь идеями философов своего времени, Г. так и не примкнул ни к одной из великих философских систем. По собственному признанию, мыслитель «всегда опасливо» относился к философии как к «бессильному словотворчеству». «Я не нуждаюсь ни в какой философии», – повторял он, имея в виду философию, занятую систематизацией, классификацией фрагментов мира, сведенного до уровня совокупности формализованных категорий. Ярким примером для него являлась французская материалистическая философия, в частности «Система природы» Гольбаха. Тем не менее всё творчество Г. пронизано глубокими философскими размышлениями о возможностях и путях познания, проблемах человеческого бытия, социально-политической жизни, культуры, искусства. Интуиция Г. открыла перспективы для систематических философских конструкций Фихте, Шеллинга, Гегеля. Противоречия и целостность жизни, ее универсализм, проявляющийся в индивидуализме, антиномии любви и смерти, гениально схваченные в его художественном творчестве, подготавливали будущие диалектические системы.
В творчестве Г. выделяются два взаимосвязанных периода: один – до середины 70-х годов и второй – после этого рубежа. В первый период, «Бури и натиска» (движения протеста мыслителей и поэтов против феодально-абсолютистских ограничений социальной жизни Германии), Г. становится всемирно известен после опубликования драмы «Гец фон Берлихинген» и романа «Страдания молодого Вертера». В философско-эстетических статьях этого периода слышатся отзвуки руссоистского преклонения перед освобожденной от пут живой и неживой природой, заметно влияние Гердера и Спинозы. Многочисленные высказывания на философские и естественнонаучные темы свидетельствуют о том, что Г. нельзя считать ни атеистом, ни деистом, ни материалистом, ни идеалистом. Мировоззрение этого периода старается вобрать в себя всю полноту беспредельной жизненности и цельности бытия. Действительность – это «нескончаемая жизнь, становление, движение, никогда не идущее вспять». То, что важно в этой жизни, – это сама жизнь, а не ее результат. Ее структурирующим центром является человек, творящий гений, а всё остальное, пишет Г., «или только стихия, в которой мы живем, или орудие, которым мы пользуемся». Для Г. этого периода путь решения социально-этических проблем определен: через творческий индивидуализм гения – к общечеловеческому универсализму.
Г. высказывает в несистематической форме ряд идей, к которым философская мысль пришла только сейчас: критика «психологизма» и «субъективизма», феноменологическая редукция, принципиальная координация, идея расколотости сознания. С одной стороны, он утверждает: «Моя максима: максимально отречься от себя и воспринимать объекты во всей возможной чистоте». С другой стороны: «Всё, что есть в субъекте, есть и в объекте и еще кое-что. Всё, что есть в объекте, есть и в субъекте и еще кое-что». В зависимости от объекта исследования, Г. каждый раз становится на иную «точку зрения» с целью прояснения этого неразложимого «кое-что». Ирония становится познавательным инструментом, а не только художественным приемом. «Я не могу довольствоваться одним способом мышления; как поэт и художник я политеист, как естествоиспытатель – напротив, пантеист… Если мне как нравственному человеку потребуется единый Бог, то я позабочусь об этом». За внешним релятивизмом «точек зрения» стоит сознательный отказ от философской традиции абстрактного системосозидающего умозрения, предписывающего закон природе. Г. наметил черты того способа мышления, с помощью которого только и можно приблизиться к тому новому объекту, который он выявил как ученый и в котором он существовал как художник, – стихию жизни.
Эволюция мировоззрения и мирочувствования Г. начинается в процессе перехода от «Бури и натиска» к более широким и спокойным горизонтам органической жизненности универсума, которая уже несет в себе закономерности, отличающиеся конструктивностью и эволюционностью. В определенной мере сказывается увлечение Г. античностью: благородной простотой и величием античного искусства, одухотворенной гармонией космоса. В основе нового воззрения на реальность лежит пантеизм Спинозы. Г. всю жизнь восторгался его великой идеей бесконечной связи природы. Как и Спиноза, Г. не признает никакого скачка, никаких различий между органической и неорганической природой. Он так увлекся грандиозностью замыслов философа, что даже не заметил, что пантеизм находится в противоречии с механистическим формализмом Спинозы. Если у Спинозы принцип единства сущего – механический, то у Г. – органический: природа живая и в большом, и в малом. Г. полагал, что у всякого явления есть «праобраз», изначальная идея, определяющая структуру и внутреннюю силу всего живого, вызывающая его изменение, переход к более сложным формам.
Интуитивно чувствуя диалектику общего и особенного, Г. не испытывал потребности в ее детальной разработке. Факт в его чувственной и созерцательной данности был для него одновременно и явлением единичным, и носителем родовых свойств. Такой подход был основанием разработки философии символа. Хотя Г. не создал ее как законченную концепцию, его интуиция ученого была практическим применением философско-символического мироощущения.
Любая философская абстракция, концепция, к которой прикасается Г., наполняется поэтическим духом. Не случаен переход Г. от опоэтизированного спинозизма к искусству. Тот «праобраз», который угадывается художником, и есть настоящая, подлинная природа, «высшим продуктом которой является прекрасный человек… Поэтому перед лицом великих произведений искусства нм не остается желать ничего большего, как познавать их подлинную сущность… Всё произвольное, воображаемое отпадает прочь: тут сама необходимость, тут Бог». Природа – та закономерность, где из хаоса возникает гармония, обретающая чистоту и всеобщность. От физического состояния к органическому, от него к человечности – таков процесс постоянного восхождения, организации, универсализации внутренне целесообразного развития реального в человеке, в его сознании, в деятельности его духа, придающего единство и значение миру, процесс этот достигает наиболее высокой ступени. Нравственно организованное человечество, приводящее к высшему порядку разрозненные и противостоящие друг другу индивидуальные силы, объединяющее их в более высокую форму общественной жизни, само по себе приводит к преобразованию реальности. Раскрывая особенности праформ реальности, человечество выковывает идеальную силу, создавая как бы вечные начала, придающие законность всей его жизни. Эта энергия, преобразующая мир, и есть искусство.
Панорамный взгляд, целостно охватывающий не просто природу, но и «мировую жизнь» в целом, доступен только эстетическому сознанию. Однако такой способ видения нуждался в обосновании, которое мыслитель находит у Канта. Первое знакомство с «Критикой чистого разума» не произвело на Г. особого впечатления. «Но вот, – пишет Г., – в мои руки попала «Критика способности суждения», и ей я обязан в высшей степени радостной эпохой жизни. Здесь я увидел, как самые разные мои занятия поставлены рядом; произведения искусства и природы трактуются одинаково; эстетические и телеологические способности суждения взаимно освещают друг друга… великие основные мысли произведения представляли полную аналогию с моим прежним творчеством, деятельностью и мышлением; внутренняя жизнь искусства, как и природы, была ясно выражена в книге. Создания этих двух бесконечных миров объявлялись существующими ради самих себя, и то, что стояло рядом, было таковым, пожалуй, одно для другого, но никак не в смысле цели, не одно ради другого».
Мыслителя привлекло в философии Канта учение о самостоятельности живой природы; о самостоятельности художественной сферы; также и то, что они существуют как «одно для другого», то есть завершают себя друг в друге. Наконец, сама эстетическая способность суждения рассмотрена Кантом как интегрирующая в себе целостность личности. Так метафизическая схема Спинозы и кантовская критическая философия обретают свое интуитивное завершение у Г., именно здесь находится основание систем абсолютного идеализма Фихте, Шеллинга, Гегеля. Не случайно увлечение Спинозой в Германии началось одновременно с началом увлечения «Критикой способности суждения» и произведениями Г.
ГИЛОЗОИЗМ (от греч. hyle – вещество, материя и zoe – жизнь) – термин, введенный в XVII в. для обозначения учения, признающего «жизнь» неотъемлемым свойством материи во всех ее проявлениях, в результате чего материя обретает внутренний динамизм. Г. отличается от витализма, который помещает «жизненную силу» в косную материю. Предпосылкой философского Г. явились анимистические представления древних, одухотворявших природные силы и отдельные природные явления. Предельный случай Г. – наделение материи сознанием как высшей формой проявления жизни, что сближает Г. с пантеизмом, растворявшим Бога в природе.
Гилозоистские представления о космосе как живом организме характерны для античной философской традиции, присутствуют в натурфилософии Ренессанса, в учении о природе французских просветителей XVIII в. Г. близок к панпсихизму как учению о всеобщей одушевленности природы, получившему развитие в трудах Г. В. Лейбница, немецкого психофизиолога Г. Фехнера, К. Юнга.
ГИПЕРРЕАЛЬНОСТЬ – термин, используемый представителями философии постмодернизма (Ж. Бодрийар, Ж. Делез и др.) для характеристики особого состояния поля современной культуры. Создание Г., основанное на применении современных коммуникационных технологий, предполагает разрушение логики разделения субъекта и объекта, основания и обоснованного, означаемого и означающего, реальности и вымысла, индивидуального и социального, выражения и отражения, элитарного и массового, обладания и авторства, желаемого и действительного. Это не сфера мечты, иллюзий, это сфера жизни и действия.
Человек в Г. вырывается из сетей знаково оформленного поведения; знаки в Г. меняют свою природу: это знаки без предметных референций, без отсылок к реальности, знаки антипрезентанты, не зовут искать невидимый смысл в видимых вещах. Смысл открыто явлен в Г., граница между внешним и внутренним «взрывается». Конструктор Г. – не разум, но логика наших стремлений, желаний, это не линейная логика, но прихотливое движение разнонаправленных потоков желаний. Г. – своего рода жизнестроение, не опосредованное теорией, в ней смысл слит с вещью, манипуляция с вещью есть овеществленная мысль. Изменения в Г. и есть «творение» виртуального мира, а не только изменение бестелесного мира идей и образов. Логика пребывания человека в мире Г. сходна с логикой мифа в ее самом изначальном, глубинном смысле.
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ [лат. Globus (terrae) – земной (шар)] – совокупность проблем, от решения которых зависит будущее всего человечества. Понятие Г. П. получило распространение с конца 60-х годов XX в. Глобальными являются те проблемы, которые носят общечеловеческий характер. Они затрагивают интересы каждого народа и каждого человека в отдельности, решение их возможно только совместными усилиями; от того, в каком направлении будет осуществлено (или не осуществлено) их решение, зависят судьбы всего человечества. Наконец, эти проблемы воплощают в себе неразрывность социальных и природных сторон жизни. Г. П. сцепились между собой, как щупальца огромного спрута, опутав всю планету. Невозможно отделить экономику от экологии, психологические проблемы от политических. Необходимо новое, планетарное мышление, способное уловить связь между социальной несправедливостью и инфляцией, неграмотностью и голодом, психическими расстройствами и социальной нестабильностью, энергетическим кризисом и демографическими проблемами.
Первая группа Г. П. – интерсоциальные проблемы. Установление мира между государствами становится насущной задачей современности. Не менее важной проблемой является создание нового международного экономического порядка. Устранение неравномерности экономического развития, преодоление международной нестабильности – это одновременно и решение проблемы здоровья людей, решение проблемы качества освоения природных ресурсов. Сохранение мира в ядерную эпоху есть первое условие выживания человечества. Остановка гонки вооружений – это одновременно предотвращение загрязнения окружающей среды в планетарном масштабе. Интерсоциальные проблемы неотделимы от проблем взаимодействия общества и природы.
Вторая группа Г. П. включает проблемы, которые возникают в результате непосредственного взаимодействия природы и общества. К ним относятся проблемы природных ресурсов (обеспечение топливом, энергией, сырьем, водой); освоение Мирового океана и космоса.
Третья группа Г. П. – это проблемы, связанные с взаимодействием человека и общества (проблемы народонаселения, здравоохранения, образования). В данном случае это проблема биологических основ жизни человека, опосредованных социальными условиями. Современные ученые считают возможным создание в недалеком будущем единой мировой цивилизации, которая возникнет как «ответ» на «вызов», заключенный в Г. П. Российский академик Н. Моисеев рассматривает возможность появления в XXI в. цивилизации с коллективным общепланетарным разумом и памятью. Привлечению внимания мирового сообщества к Г. П. способствует работа Римского клуба – международной неправительственной организации.
ГНОСЕОЛОГИЯ (греч. gnosis – познание) – один из важнейших разделов философии, изучающий взаимоотношения человека и мира в процессе познания, зафиксированное в теории как «субъект-объектное отношение». Любая познавательная деятельность имеет субъект-объектную структуру. Основной круг гносеологических проблем: особенности субъекта и объекта познания; структура познавательного процесса: уровни, формы, методы; проблема истины; возможности и границы познавательной деятельности; виды познавательной деятельности, источники и цели познания и т. д.
Представления о задачах Г. в истории философии менялись. Если в античной философии не было четкого разграничения онтологии и Г., то в Новое время гносеологическая проблематика становится центральной. Проблема истины, поисков ее критериев, проблема структуры познавательного процесса, проблема активности субъекта в процессе познания решались в рамках противопоставления рационализма и эмпиризма. Г. стала своеобразным «обоснованием» онтологии. Кант задал иную направленность гносеологическому исследованию; познавательная деятельность выделялась в самостоятельную область. Хотя Г. по-прежнему занимает ведущую роль в философском знании, но ее универсалистские претензии признаны необоснованными: появляется возможность говорить об иных формах освоения действительности – морали, религии. Вместе с тем изолированное рассмотрение познавательной деятельности не признает вторжения в процесс познания социально-культурных факторов, познавательный процесс рассматривается в «чистом» виде и представляется доступным, открытым самому познающему субъекту. Самосознание не отличается в данном случае от познавательного процесса.
На рубеже XIX–XX вв. Г., опирающаяся на традиционные принципы, начинает испытывать значительные трудности. С одной стороны, возникает опасность «психологизма», подмены гносеологической проблематики результатами исследований человеческих психических процессов; с другой стороны, возникает опасность социологизма, растворения Г. в социально-культурных факторах, в отождествлении процесса познания с процессом коммуникации. Реакцией на размывание контуров познавательного процесса стало выделение области «чистых» познавательных структур, которые К. Поппер назвал «третьим миром», в отличие от реального мира и мира человеческой субъективности. Г., являвшаяся практически единственной формой теоретической деятельности, изучавшей процесс познания, в наше время оказывается метатеоретической дисциплиной, изучающей процесс познания наряду с более специальными разделами знания: методологией и логикой науки, семиотикой, социологией и психологией познания.
Современная Г., наряду с научным познанием, изучает и иные формы духовного освоения действительности, целью которых не является собственно познание, – такие, как миф, повседневное сознание, религия, нравственность, эстетическое освоение мира, идеология, утопия. В этих формах Г. интересуют особенности воспроизведения той реальности, которая оказывается предметом освоения. Для Г. в данной области возникают значительные трудности, поскольку познавательное субъект-объектное отношение в религии заменяется символическим, скорее воспроизводящим логику части-целого, в искусстве Г. имеет дело не с понятиями, а с метафорой, понятие объекта утрачивает четкие контуры, изображаемое становится всего лишь объектом интерпретации, не поддается однозначной оценке как «истинное» или «ложное». В связи с этим возникает версия замены традиционного предмета Г. – изучения субъект-объектного отношения – на иной – изучение субъект-субъектного отношения. Традиционная структура познавательного процесса как бы «охватывается» иной структурой – субъект-субъектной.
ГНОСТИЦИЗМ (греч. gnosis – учение, знание) – философское учение, стремившееся дополнить христианство восточными религиозными представлениями и соединить его с греческой философией. Основные представители: Василид, Валентин, Феодот др. Г. возник в начале христианской эры в Сирии и Александрии. Онтологической основой учения является Великая Триада (Материя, Демиург, Спаситель), по-видимому представляющая собой преобразованные христианские представления о Божественной Троице. Цель Г. – познание мира с целью его преобразования и выработка практических рекомендаций для тех, кто стремится к блаженству, счастью.
В концепции Г. творцом всего является высшее существо, называемое различными именами, выражающими его абсолютное могущество и несравнимость, самодостаточность и неопределенность. Однако поскольку мир сущего неустроен и лежит во зле, постольку этот мир нельзя признать творением Бога, иначе причину несчастий следовало бы искать в Нем. Поэтому основой этого мира может быть только материя, которую сирийские гностики представляли в виде самостоятельного злого существа, а западные – приписывали ей свойство призрачности. Но и сама материя, с точки зрения Г., не могла произвести этот мир, где несомненно есть частицы божества. Решая задачу происхождения мира, Г. говорит об истечении божественного существа мельчайшими частицами («эонами») и ослаблении божественного начала по мере их удаления и погружения в материю. Самое совершенное истечение из «полноты разума» («плеромы») – Демиург – сочетание света и мрака, силы и слабости; он сотворил мир, заключил в нем человеческие души и обременил их материей.



