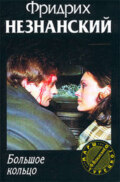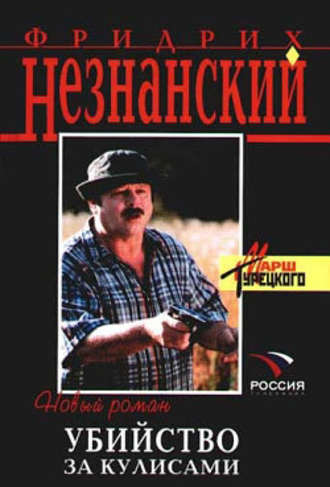
Фридрих Незнанский
Убийство за кулисами
Должно быть, вытянувшееся от изумления лицо Померанцева произвело впечатление на всех артистов, поскольку заговорили они почти одновременно:
– Но как же так?! – Ирина Радова всплеснула руками. – Мы же все это сто раз следователю говорили, как же так?
– Вот именно! – возмущенно подала реплику Голдина.
– Как же вы не в курсе? – скривился баритон Вадим Кутепов.
И только композитор молча покачал головой.
Валерий Померанцев не в первый раз сталкивался со столь наивным представлением сограждан о том, кто и каким образом проводит следствие, и поэтому прореагировал спокойно – в отличие от вспыхнувшей Романовой.
– А почему вы решили, что мы обязаны были об этом знать? – довольно резко ответила вопросом на вопрос Галя. – Вот вы точно должны понимать, что следствия по поводу убийства разных людей ведутся разными подразделениями! Безусловно, все, что касается вашего театра, Генпрокуратура сведет воедино… если возникнет необходимость. Но дело об убийстве вашей солистки мы получили только вчера, пришли познакомиться с вами, послушать, что вы думаете о случившемся… Естественно, мы просто не можем быть в курсе всего! Но будем – обязательно, и в самое ближайшее время.
Артисты замолчали так же дружно, как и начали говорить. Померанцев воспользовался паузой и перешел к делу, поудобнее устроившись на облюбованном им стуле, с которого видны были все находившиеся на сцене.
– С каждым из вас, – произнес он мягко, – мы будем беседовать отдельно и неоднократно, можете не сомневаться. А сегодня действительно очень хотелось бы услышать, что вы сами думаете о гибели вашей коллеги. Может быть, кто-нибудь поделится своими соображениями по собственной инициативе?
– Я поделюсь! – Кира Голдина решительно тряхнула головой, отчего ее длинные роскошные волосы, собранные в «конский хвост», перекинулись на грудь. – И думаю, с тем, что скажу, согласится каждый, хотя не все в этом сознаются… Простите, Юрий Валерьевич, я понимаю, что вам это будет неприятно, но… В общем, Машу мог убить кто угодно, но только не Юрий Валерьевич!
– Почему? – поинтересовался Померанцев, заранее догадывавшийся об ответе.
– Потому что она была злокачественная стерва, вот почему! И единственный, кто этого не понимал…
– Если вы хотите сказать, Кира, что я этого не понимал, – негромко перебил ее Строганов, – то это будет ложью… В последние полтора месяца я это не только понимал, но успел испытать на собственной шкуре…
– Ну зачем вы на себя наговариваете?! – В Кириных глазах блеснуло что-то, подозрительно напоминавшее влагу. – Да вы всегда, с самого начала, позволяли ей все… Хозяйничала, как хотела! Издевалась над нами за вашей спиной при любой возможности! Я-то это знала лучше всех!
– Почему? – вновь спросил Померанцев.
– Потому что была ее дублершей, – нервно ответила Голдина. – И тут у Марии возможностей – хоть отбавляй!.. Я, например, должна петь в вечернем спектакле. Приезжаю в театр, до этого весь день настраиваюсь… А она, которая, по ее заверениям, в этот день никак не могла играть, тут как тут! И все – мимо… Понятно?.. А уж пока она позволила мне взять партитуру, чтобы партию отксерокопировать… У нас экземпляров тогда, в самом начале, было в обрез… Вот уж поиздевалась!
– Ты, Кира, все-таки палку не перегибай, – неуверенно вставил баритон Вадим. – Характер у Маши был, конечно, не мед, но…
– А ты вообще молчи! – внезапно вмешалась Радова. – Ты на нее… Простите, ради бога, Юрий Валерьевич… с самого начала облизывался, как кот на сливки, а она этим пользовалась… Надо же, до сих пор пользуется!..
– Чего только не узнаешь и о себе, и о других в такой вот ситуации, – горько бросил Строганов, и впервые за все время на лице его мелькнула усмешка.
– Простите, Юрий Валерьевич, – повторила Ирина и, кажется, приготовилась расплакаться.
– Я продолжу, – вновь завладела вниманием присутствующих Кира. – Так вот. Кто ее мог убить? Например, бывшая подруга, которой она отказала в деньгах на лекарство для ее больной матери, а мать возьми – да и умри!.. А подруга хотела только занять, понимаете?.. И не спрашивайте, откуда я это знаю, сама расскажу: я у нее в гостях была, когда эта несчастная женщина позвонила и кричала, что таким, как Машка, нельзя жить среди людей… Я рядом с телефоном сидела и все слышала! Да она, когда трубку бросила, сама же мне и рассказала эту историю… От злости рассказала, поливала грязью эту несчастную подругу и ее бедную мать… «Я, – говорит, – свои деньги сама решаю, куда тратить: на сумасшедших старух или на себя с Пуфом…» Представляете? Для нее этот проклятый Пуф был дороже больной женщины! Вот!
– Ка… Какой Пуф? – растерянно поинтересовалась Романова.
– Обыкновенный кот… То есть нет, как раз необыкновенный, не кот – а настоящая гадина… Кстати, интересно знать, кому он сейчас достался?.. Она его котенком где-то подобрала, а он вырос здоровенным, как… как собака, и таким же злобным…
– Вот видишь, – Строганов снова усмехнулся, – говоришь, Маша стервой была… А она ведь Пуфика на помойке нашла, подобрала и выходила… Разве злой человек способен на такой поступок?..
– Еще как способен! Мария – живое тому доказательство… То есть… Я хотела сказать… – Кира наконец смешалась: в пылу своей речи она совершенно забыла, что как раз «живым» доказательством певица уже не была…
– Дамы, успокойтесь. – Неожиданно молча наблюдавший происходящее тезка Померанцева, композитор Валерий Михайлович Струковский, поднялся из-за рояля. – Не думаю, что господину следователю интересны наши внутренние дрязги…
– Не скажите! – усмехнулась Романова. – В личности жертвы почти всегда кроются причины преступления – конечно, если преступление неслучайное. Об этом, кстати, всем будущим следователям на первом курсе твердят… И это – правда.
– Убийство Маши неслучайно – в этом я уверен, как ни в чем другом, – горько произнес Юрий Валерьевич Строганов. И все, словно по команде, замолчали.
Он поднял голову и посмотрел в глаза Померанцеву:
– Как раз то, что Машу убили неслучайно, я и пытался доказать вашему предшественнику… вашему коллеге.
– Ну что ж… – Померанцев решил, что на данный момент получил впечатлений более, чем достаточно. Галя наверняка тоже. Он поднялся с места. – Юрий Валерьевич, давайте мы с вами сделаем так… Насколько я знаю, назавтра у вас назначено свидание с руководителем нашей следственной группы – Александром Борисовичем Турецким. Вы не могли бы очень коротко записать к этому моменту на листочке в порядке появления все неприятности, свалившиеся на театр – с самого начала? Или не успеете?..
– Я могу сделать это минут за десять, слишком много об этом думал…
– И не забудьте про сгоревшие декорации… Кстати, я вижу, вы успели обзавестись новыми?..
– Что вы, нет! Почему вы так решили?..
Валерий кинул взгляд на золотое кресло.
– А-а-а… Нет, мебель огонь не тронул. Сгорели очень дорогие задники и часть не менее дорогих костюмов… Остальное цело, успели потушить все вовремя, иначе и от ДК бы ничего не осталось… – Он задумчиво покачал головой. – Мы тогда еще думали… Решили, что пожар – случайность, чья-то неосторожность… Даже заявлять никуда не стали… Собственно говоря, именно с пожара все и началось… Но давайте и в самом деле отложим это на завтра!
…Уже на выходе Померанцева с Романовой догнала пропустившая все предыдущее помреж – толстуха Римма:
– Товарищи следователи, подождите… Подождите!..
Померанцев, совершенно забывший о своей просьбе, недоуменно обернулся к запыхавшейся девушке.
– Вот, пожалуйста… Едва нашла! – Она сунула в руки Валерию толстую пачку бумаги формата «А-4». – Извините, экземпляр не очень четкий, машинописный… Его сам Валерий Михайлович делал, он на компьютере не умеет… Старики вообще с компьютерами не в ладах…
Впечатление «старика» композитор никак не производил, но у таких юных особ, как Римма, на этот счет было другое мнение.
– Вы выглядите расстроенной, – не удержалась Галочка. – Вы так любили Краеву?
– Краеву? – Бровки девушки сами по себе поползли вверх. – Н-не знаю… Понимаете, сегодня как раз два месяца с того дня, как Марк Иосифович погиб, я… я была у его мамы…
Голос девушки прервался и дрогнул. Она опустила голову и уставилась в пол.
– Спасибо вам за либретто, – ласково сказал Валерий. – Вернем, как только увидимся в следующий раз.
…На улице по-прежнему было холодно, для лета – просто возмутительно холодно. Но Валерий с удовольствием вдохнул в себя воздух, показавшийся после всего увиденного и услышанного удивительно свежим.
– Ты чего примолкла? – поинтересовался он у Романовой. – Фигуранты не понравились?
– Почему? – Она пожала плечами. – Артисты как артисты… Они по жизни все склочники… Наоборот, мне главный фигурант очень даже понравился. Нужно достать его диск и послушать, как поет… Можешь считать меня необъективной, но на убийцу он непохож категорически!
– Я и сам не слепой, – усмехнулся Валерий. – И согласился бы с тобой на все сто, если бы не парочка обстоятельств.
– Ты имеешь в виду улики?
– Нет! Я имею в виду, во-первых, что он, насколько я понимаю, артист Божьей милостью, а артисту, да еще талантливому, любую роль сыграть – раз плюнуть! А с его внешностью роль простодушного сибирского «медведя» – и вовсе как нечего делать.
– А во-вторых?
– Во-вторых, Галчонок, личный опыт… Могу тебе назвать не менее десятка дел, по которым проходившие в них убийцы были по жизни настоящими обаяшками… Нет, солнце мое, я – не поклонник Ламброзо! Так что будем работать, и работать, судя по всему, много и нудно… И не забудь, собираемся у меня завтра где-то в час, не позже. Володя в курсе. Ибо не позднее чем в пятнадцать нуль-нуль я обязан предъявить нашему дорогому Сан Борисычу предварительный план следствия!
Глава 4
В чикагском супермаркете
За месяцы, прошедшие со дня отъезда Лизы с Сашкой, просторная трехкомнатная квартира, купленная им в хорошем доме старой застройки рядом с Лесной улицей и соответственно рядом с помещением, которое арендовал театр, несмотря на старания домработницы, приобрела нежилой вид.
Прислуга теперь за те же деньги, что и прежде, по его просьбе приходила не через день, как при Лизе, а дважды в неделю. И за дни, проходившие между ее визитами, мебель успевала покрываться слоем пыли, на сверкающем лаком паркете образовывались неведомо откуда бравшиеся горки мусора. К этому добавлялись гора немытой посуды в кухонной раковине и разбросанная по стульям и креслам одежда. Постель он в последнее время по утрам тоже перестал застилать, не видя в этом никакого смысла… Даже начинающий психолог усмотрел бы сейчас в образе жизни Строганова все признаки начинающейся депрессии.
Юрий это прекрасно понимал, но ни к каким психологам обращаться не собирался: всю жизнь презирал людей, пытавшихся вернуть удачу или избавиться от неприятных ощущений с помощью транквилизаторов. До последнего момента он верил, что в состоянии справиться со своими бедами сам – как это бывало уже не раз и не два в его жизни. Однако убийство Маши его все-таки добило…
Вернувшись из театра (вернее, из того, что от него осталось) после визита Померанцева, Юрий Валерьевич сдался и открыл наконец кухонный шкафчик, в котором Лиза хранила уйму лекарств. В последний год их совместной жизни она и не пыталась даже сделать вид, что способна если и не поддержать мужа, то самостоятельно справиться с собственными страхами. А вот Маша… Маша так же, как и Юрий, презирала «колеса» (так она называла все лекарства, включая безобидный аспирин) всей душой. От простуды и даже от гриппа лечилась медом и малиной с чаем. И даже в те нередкие для любого певца моменты, когда голосовые связки не выдерживали колоссального напряжения и верха, особо красивые и чистые для такого насыщенного меццо-сопрано, как у нее, начинали садиться, пользовалась не глюкозой, которую вкалывало в таких случаях в вену большинство артистов, особенно оперных. Маша применяла совершенно кошмарный рецепт, раздобыла который в Миланской консерватории – в тот год, когда они с Юрием познакомились… На «лекарство», приготовленное по этому рецепту, Строганов смотреть не мог без тошноты: пол-лимона, выдавленные в сырое яйцо, – гадость необыкновенная! А она ничего – пила, да еще медленно, словно смакуя…
Юрий Строганов опустился на высокий табурет, начисто забыв про Лизину аптечку: все последние недели он часто выпадал из времени, словно воспоминания о прошлом могли помочь ему справиться с настоящим. Сейчас же перед его глазами, вызванный услужливой памятью из небытия, возник тот день, когда в далекой от Москвы, яркой и солнечной стране он познакомился с Машей.
– Мария Краева, будем знакомы! – и сразу, без всяких переходов: – Нам дали одну-единственную репетицию, всего час… Как вам это нравится?!
Он ответил не сразу – едва она переступила порог его артистической уборной, как все его собственное недовольство, раздражение и разочарование перед знаменитым Ла Скала улетучилось. Он забыл сразу о слишком тесных и душных артистических с узкими, словно бойницы, окнами, о неудобном репетиционном расписании перед концертом, который мог стать для него, молодого тогда певца (и стал в результате!), судьбоносным. О долго и тщательно готовившемся репертуаре, который срочно нужно менять: в самом конце выступления придется петь вместе с какой-то российской начинающей «певичкой» дуэт! Далеко не самый его любимый – дуэт из «Кармен» Бизе: почему-то партия Хосе его не слишком привлекала.
Возможно, потому, что роль не соответствовала его собственному характеру?.. А теперь еще и неведомая партнерша, только что завершившая стажировку в Миланской консерватории, навязанная ему продюсером, а продюсеру – наверняка кем-то еще… Прежде Франк Зальц никогда себе такого не позволял – они работали с ним к тому моменту уже около трех лет. Даже после того, как, женившись на Лизе, он перебрался на постоянное жительство к ней в Чикаго.
А потом Маша переступила порог его артистической, и он обмер, даже не сразу ответил, разглядывая ее, пораженный красотой девушки. Она была тогда куда более хрупкой, чем когда они позднее встретились в Москве. Его поразили темно-каштановые локоны, с каким-то необыкновенным золотым свечением рассыпанные по обнаженным, очень белым (и это после полугода под палящим итальянским солнцем?) плечам; сочные темные губы со сверкающей полоской зубов, но более всего – твердый, серьезный взгляд больших серых глаз… Он готов был поклясться, что именно так и выглядела в жизни Кармен: говорят, Проспер Мериме взял сюжет своей знаменитой новеллы из жизни, описав реальную историю…
Ни в минуту знакомства, ни спустя годы он не мог вспомнить, что именно ответил тогда Маше. Помнил другое: изумление… Нет, настоящее потрясение от того, как дивно звучали на той репетиции их голоса, как слаженно они пели, вплоть до последнего краткого дыхания – словно он и эта «стажерка» годами репетировали дуэт Хосе и Кармен, словно учились у одного и того же педагога… Это было чудо! Но Маша вовсе не удивилась. Она – об этом он узнал много позже – всегда была уверена в себе, в своем таланте, в том, что ее меццо – лучшее если не во всем мире, то уж в России – точно… Ее уверенность оправдалась только наполовину, но тогда они об этом не знали.
Казалось, что оглушительный успех в Ла Скала, буря аплодисментов зала, который в отличие от многих других залов знал толк и в музыке, и в исполнителях, принадлежит им обоим… На самом деле это был успех его одного. Зал действительно «знал» – так же, как и просчитывающие успех на несколько ходов вперед импресарио: уж они-то знали – точнее некуда! И контракты, о которых можно было только мечтать, посыпались исключительно на него…
Он с горечью припомнил, как за несколько дней до отъезда на гастроли по лучшему из предложенных контрактов унизительно, почти на коленях, умолял Зальца продюсировать Марию, рыдавшую в этот момент в снятом ими сразу после концерта люксе и проживших там вместе всего-то одну-единственную неделю… Фридрих был тверд и непреклонен, как скала. Позднее Юрий понял почему.
Сам блестящий педагог-вокалист, повидавший на своем веку немало певческих судеб, прежде чем наткнуться на золотую жилу – русского тенора Юрия Строганова, он отверг Краеву не потому, что считал ее недостаточно одаренной. Роковым для Марии стал вспыхнувший между ней и Юрием роман. Трезво мыслящий Фридрих, собственными руками и трудом создавший Юрию лестницу, по которой началось его восхождение на музыкальный олимп, в отличие от влюбленного Строганова, отдавал себе отчет в том, насколько губительным может оказаться для его «золотой жилы», а следовательно, и для самого продюсера этот бурный роман… Знаем – проходили, и неоднократно! Да и железный характер Краевой, способной подавить Строганова, подчинить его себе и далее использовать по собственному усмотрению, для Фридриха загадкой тоже не был. Юрий слабаком не являлся – боже упаси! Однако так страстно, до полного самозабвения, он к своим двадцати семи годам не влюблялся ни в одну женщину. А что делает страсть с мужчинами, особенно с мужчинами сильными, мудрый Фридрих тоже отлично знал…
Нет, блеклая и несколько пресноватая Лиза с ее ровным и даже вяловатым характером, получавшая от мужа в ответ столь же ровную и почти не обязывающую к верности привязанность, устраивала Фридриха куда больше! В дела мужа, а уж тем более в дела его продюсера, она никогда не лезла, в контракты, которые заключались с самыми разными импресарио, носа не совала. А растущая известность Юрия, его все более частые и долгие отлучки из Чикаго ее, казалось, и вовсе не задевали.
Их брак был скоропалительным, и, обнаружив, что в жизни Строганова появилась Лиза, или, как звали ее все окружающие, «Лу», поначалу Зальц встревожился: с его точки зрения, столь ранний брак мог здорово повредить карьере артиста. Однако очень быстро Фридрих Зальц успокоился – понял, что никакой «безумной страсти» между супругами нет… Что именно испытывала молчаливая и сдержанная Лу к Юрию, так и осталось неясным. Строганов же ее в первую очередь жалел… С первого момента их знакомства в чикагском супермаркете, где Юрий случайно вышиб из рук Лизы несколько пакетов, которые она только собиралась положить в корзину.
Строганов смутился и уже открыл рот, чтобы извиниться по-английски за свою неловкость, когда девушка абсолютно по-русски ойкнула, после чего они уставились друг на друга – худенькая блондинка с печальными зеленоватыми глазами и высокий широкоплечий мужчина с крупными чертами лица. На ней – старенькие джинсы и ношеный-переношеный растянутый свитерок, на нем – сшитый на заказ костюм, обошедшийся почти в три тысячи долларов…
– Вы – русская?! – воскликнул он, успевший к тому моменту истосковаться по дому, несмотря на только что зачатую известность. Именно благодаря ей и состоялись тогда первые американские гастроли.
Она была русской, ей было куда больше лет, чем те, на которые она выглядела. Юрия не смутило, что Лиза оказалась старше его. Ее привезли сюда родители, высланные из России как диссиденты. Но никакой «американской сказки» в Лизиной жизни не случилось: отец с матерью через положенные по закону годы получили гражданство и вскоре после этого умерли. Американский муж бросил ее спустя три с небольшим года ради своей коллеги. Денег на образование Лизы у отца с матерью не было. И к тому моменту, когда они с Юрием столкнулись в супермаркете, она влачила довольно жалкое, по американским меркам и вовсе нищенское существование, лелея одну-единственную мечту – хоть когда-нибудь вернуться в Россию, воспоминания о которой, как любые детские впечатления, были у Лизы единственными светлыми…
Скажи кто тогда Строганову, что его тихая и покорная жена, безмерно благодарная своему мужу за обеспеченную и беззаботную жизнь, способна сохранить в себе характер, позволивший совершить такой поступок – бросить его, лишив сына, он рассмеялся бы такому «провидцу» в лицо… Да, жизнь и умнее, и хитрее человека, а сюжеты, которыми она так богата, не предусмотришь заранее.
Даже такой мудрый человек, как Фридрих Зальц, и тот никогда бы не поверил, что Лиза способна бросить Строганова… Не поверил бы, будь он, конечно, жив… А Аграновский – он бы поверил?..
…Строганов поднялся и потащился в спальню: было уже за полночь, про распахнутую аптечку он успел позабыть. Зато вспомнил о просьбе Померанцева – восстановить в хронологической последовательности все беды, свалившиеся на «Дом оперы» с самого начала. И подумал, что на самом деле начало упрятано так далеко, что его из сегодняшнего дня уже, пожалуй, и не разглядеть… Или все-таки можно увидеть?.. А что, если за всем этим кошмаром стоит все тот же человек, из-за которого – скорее благодаря которому – Юрий и уехал отсюда одиннадцать лет назад, навстречу своей мировой славе?
Как его зовут – он позабыл начисто, да и помнил благодаря драгоценному своему учителю, профессору Аграновскому, недолго. Зато физиономия этого хмыря, попытавшегося сломать Юрию жизнь много лет назад, в памяти сохранилась: натужная какая-то, красная, словно после излишних возлияний, рожа с небольшими, пронзительными темными глазенками и неожиданно густыми «брежневскими» бровями над ними.
Вообще этот тип страдал явным переизбытком волос: густая, неряшливая шевелюра, не пострадавшая от возраста (явно под пятьдесят), сизые от быстро пробивающейся бороды щеки… Что еще?.. Кажется, невысокий, совершенно точно полный, даже толстяк. Разговаривали они единственный раз в жизни, и Юрию запомнились почему-то больше всего его толстые, похожие на перевязанные сосиски пальцы. Пальцы лежали перед ним на столе и постоянно двигались, бесшумно постукивая по черной, как у парты, столешнице.
Разговор происходил в одной из аудиторий консерватории. Юрий, еще не успевший остыть от своей первой в жизни настоящей победы, самый молодой из лауреатов Всероссийского конкурса вокалистов в своей номинации, считавший это настоящим чудом для себя, только-только закончившего консерваторию, ощущал какой-то непреходящий, волшебный восторг, в ауре которого жил: двигался, ел, разговаривал, спал. Даже сквозь сон он чувствовал свое счастье от победы… Он не сразу понял, чего именно хочет от него этот жирненький человечек с такими смешными бровями, да еще забавно причмокивающий во время разговора. Он тогда вообще слабо понимал, чем отличается продюсер от импресарио…
– …Уверяю вас… – он наконец расслышал этого типа, изловившего его в коридоре, где сам он мотался с неопределенной целью, поскольку занятия уже кончились: наступило лето. Такое же холодное и неприветливое, как и нынешний июнь. – Уверяю вас, – повторил толстячок, – что и при двадцати процентах вы станете состоятельным человеком! И я – я! – гарантирую вам не только гастроли, но и известность! Пока – на родине… И, разумеется, блестящую карьеру… Для начала, скажем, в театре Станиславского и Немировича-Данченко… Думаю, мы сговоримся!
Они не сговорились. Поняв, чего именно добивается от него этот человек, представившийся продюсером, Строганов вначале не поверил своим ушам, а потом пришел в настоящее бешенство: восемьдесят процентов своих будущих гонораров в течение пяти – пяти лет! – отдавать ни за что ни про что этому вот мерзкому, а вовсе не забавному типу?! Гарантирующему ему в обмен славу, чуть ли не мировую славу, которой он намеревался достичь сам, честно отдав всего себя музыке, без таких вот мелких мошенников, посмевших протянуть к нему, а значит, и к самому святому – к музыке! – свои жирные лапы?!
Это тогда Юрий был уверен, что мошенник мелкий, а досадный разговор – не более чем эпизод в его жизни. Толстяка он тогда выкинул из консерватории собственноручно, едва ли не за шиворот… Ему, наивному мальчишке, и в голову в тот момент не могло прийти, чем обернется возмущение, которое он испытал. Справедливое возмущение! Так он думал и сейчас, не только тогда… А понимать начал только после того, как в последнем из музыкальных театров Москвы ему вежливо отказали, даже не потрудившись аргументировать. Не помог ни диплом с отличием, ни «лауреатство». Вот тогда-то он и ощутил себя на краю едва ли не пропасти.
Пора было съезжать из общежития, Юрий больше не являлся студентом. Денег на съемную не только квартиру, но и комнату не было. Вот-вот закрывалась на ремонт консерватория, а следовательно, кончался и доступ к инструменту… Вечером того дня, когда его отказались прослушать в последнем и не самом известном музыкальном театре, вахтер позвал Юрия к телефону, ворча на то, что вынужден был тащиться на второй этаж, где Строганов, бывший студент, существовал на птичьих правах.
По ту сторону провода зазвучал уже знакомый причмокивающий голос, иронично посочувствовавший ему в связи с неудачными попытками «трудоустроиться» и повторивший свое предложение – уже не за восемьдесят, а за восемьдесят пять процентов…
Юрий Строганов впервые в жизни выматерился и бросил трубку. Он все еще надеялся на помощь Аркадия Ильича Аграновского, который знал об этой возмутительной ситуации и действительно пытался помочь. Могло ли Юрию прийти в голову, что даже его любимый учитель, профессор, которого прекрасно знали и как педагога-вокалиста, и как отличного симфониста-дирижера в Европе, окажется бессилен перед скользким толстяком?.. Или перед теми, кто за ним стоял, – это Строганов понял гораздо позже.
И все-таки именно Аграновский его и спас, именно ему был обязан Юрий всем лучшим, что произошло в его жизни. А тогда – и вовсе возможностью остаться в столице.
В то лето, как всегда, семья профессора выехала на дачу, и Аркадий Ильич приютил Юрия в комнате сына, перспективного пианиста, находившегося на гастролях в Японии. При супруге и дочери это было бы невозможно: ходили слухи, что обе женщины отличаются сварливым нравом… Так была решена проблема крыши над головой и инструмента. А заодно была вместе с профессором подготовлена и новая концертная программа: ария Рудольфа из «Богемы» Пуччини, Германна из «Пиковой дамы», несколько романсов современных и малоизвестных композиторов… Строганов никак не мог понять, для чего вдруг понадобилось разучивать эти не самые красивые и талантливые романсы, пока не наступило время «Московской осени» – традиционного столичного фестиваля, который, несмотря на финансовые затруднения, проводил Союз композиторов, едва удержавшийся в перипетиях нового времени.
– Именно романсы вошли в программу твоего выступления, – пояснил Аграновский. – Автор сам работает в «Союзе», ты его более чем устраиваешь… Слушай внимательно: если будут бисировать, поешь в зависимости от собственного настроения либо Германна, либо Пуччини. В зале будет находиться мой давний друг, продюсер из Мюнхена. Если ты его заинтересуешь…
На этот раз Юрий Строганов понял все сразу. И то, что мюнхенский продюсер – его первый и последний шанс. И то, что ничего больше сделать для него Аграновский не в состоянии. И то, что слово «мафия», все чаще попадавшееся в нынешних газетах, вызывавшее у него улыбку, вовсе не пустой звук.
Мафия не мафия, но людям, стоявшим за волосатым ублюдком, удалось закрыть перед начинающим солистом все двери, в которые он пытался стучаться.
…К «Московской осени» Строганов готовился даже упорнее, чем к Всероссийскому конкурсу, и волновался куда сильнее. Одна мысль о том, что означает для него провал, повергала Юрия в дрожь. В родной город он возвращаться не собирался: на его родине непременным и обязательным условием профессионального успеха, настоящего успеха, была столица, и только столица… О Мариинке, так же как и вообще о Питере, он предпочитал не думать, уже догадываясь, что и там его встретит в точности такой же и с теми же целями «профессионал».
Единственная надежда – вырваться за рубеж. Любой ценой – так он думал, хотя спроси его, что означает «любой ценой», ответить бы не сумел. Просто знал, что в далеких Штатах возможно существование знаменитого оркестрика из какого-нибудь Далласа или Омахи. А в России – увы: времена, когда можно, проживая в далеком Нижнем, мелькать на экране центральных каналов ТВ, еще были по-прежнему далеки…
Юрий и по сей день не мог бы ответить, как пел на фестивальном концерте. Запомнил только ужас, который испытал, обнаружив, что зрительный зал наполовину пуст: интерес к классической музыке в те годы уже оставлял желать лучшего.
Никакой артистической уборной в Доме композиторов, легкомысленно прозванном его посетителями «Балалайкой», предусмотрено не было. Немного отойдя от выступления, Юрий, как ему и было велено Аграновским, потащился в кафе, расположенное на том же этаже, что и зал – к слову сказать, зал с отвратительной акустикой.
Вот кафе было забито, что называется, «под завязку». Однако профессор и его спутник каким-то чудом все-таки нашли место, да еще за самым дальним, угловым столиком.
Аркадий Ильич помахал Строганову рукой. Юрий начал пробираться к профессору и его спутнику, который сидел к нему затылком: седоватым, стильно подстриженным. По дороге Юрий прихватил чей-то освободившийся стул, вдруг в панике подумал: на каком же языке будет разговаривать с немцем? Вдруг тот не знает английского?..
Волновался он напрасно: интеллигентный, подтянутый и тогда еще весьма моложавый Фридрих Зальц владел свободно пятью европейскими языками, в том числе, очень прилично, русским.
В кафе они не засиделись, поскольку господин Зальц выразил желание послушать «господина Строганова» еще. Прямо сейчас. Комнату с вполне прилично настроенным старым роялем они нашли быстро – этажом выше: директор Дома, радостно отозвавшийся на ласковое профессорское «Гришенька», вручил им ключи от нее самолично: оказывается, он тоже сидел в кафе с какой-то шумной компашкой. За рояль Аркадий Ильич сел сам, и все дальнейшее слилось для Юрия в одно бесконечное, не желавшее кончаться, несмотря на усталость, пение… Сколько раз он тогда повторил весь свой репертуар? Плюс вокализы, плюс…
Господина Зальца интересовало все: и «верха», и наиболее удобный для Строганова диапазон, и обертоны неудобных «низов», и выносливость исполнителя… Директор по имени Григорий терпеливо сидел тут же, и именно его глаза за толстыми стеклами очков, в которых все ярче разгорался огонек искреннего восторга, помогли тогда Строганову выдержать неожиданно устроенное испытание.
Когда все закончилось, шел второй час ночи, Дом композиторов давно уже был пуст – если не считать старушки-вахтерши, не решавшейся, пока не ушел директор, вздремнуть.
– Я вас беру, – коротко, самым будничным голосом сказал Фридрих Зальц. – Надеюсь, Аркадий говорит правду, утверждая, что вы еще и трудолюбивы… Контракт начнем составлять завтра, я работаю, как правило, из двадцати пяти процентов с начинающими и из пятнадцати с, как у вас принято говорить, «раскрученными»…