
Франческо
Сила лиса
Рассказ в пяти частях

В моём лесу так много пищи,
повсюду в нём – махапрасад.
и всем, кто силы лиса ищет,
будь то поэт, художник, нищий,
я всем всегда сердечно рад.
среди мистических растений,
психоделических цветов,
под треск цикад, под птичье пенье
и днём и ночью на коленях
я к откровениям готов.

Silencio negro
симфонический вопль
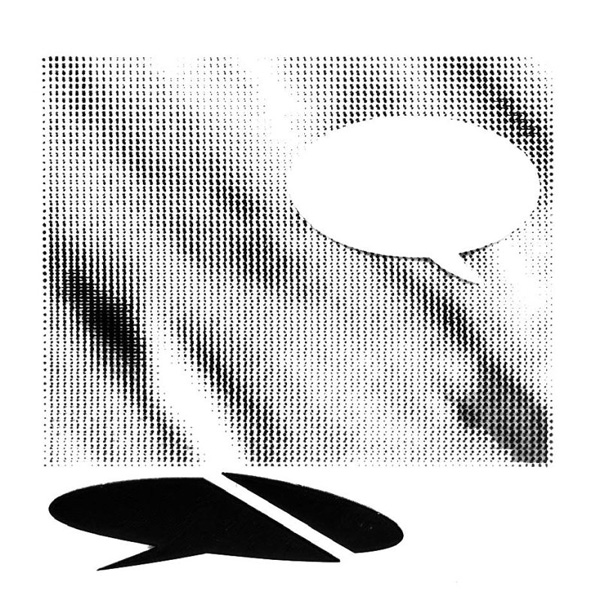
Пока купаются в аллегро
лягушки нот,
звучит, звучит silencio negro[1]
длиною в год.
зря семистрочная каёмка
бежит сквозь лист.
мой дух молчит ужасно громко,
ведь он – пречист.
молчит и ждёт, когда, когда же
утихнет спор
и станет слышимо адажио,
тон: соль минор.

Ох, жизнь моя, ты – скучное кино,
ты – сиквел неудачного сюжета,
невкусная, как в стенах кабинета
забытое прокисшее вино.
продюсер запил, сценарист уснул,
а режиссёра не было в помине.
герой – рыбак, дрейфующий на льдине,
который лучше б сразу утонул.
но он не тонет, он лежит на льду
и в облаках высматривает лица,
а время протекает, время длится,
нанизывая бусин череду
на леску. рыба бьёт хвостом об лёд.
рыбак лежит, а жизнь его течёт.
лишь мачта взгляда поднята высоко:
всё происходит в срок, ничто до срока
не происходит. льдина всё плывёт.
ей скучно, холодно и очень одиноко.
Откажись от прогнозов,
не смотри в календарь:
электрической розой
расцветает фонарь,
аметистовый купол
окружает планшет.
руки сложены в рупор:
звук становится свет,
звук становится – время,
звук становится – мир.
льётся с неба сквозь темя
бесконечный эфир.
Пусть акварель трепещущих аллей
в овальном отразится водоёме,
пусть солнце в зеркалеющей истоме
покажется круглее и алей.
я говорю, мой голос искажён
артикуляцией, помехами в эфире,
но отражённых волн диапазон
становится спектральнее и шире.
пусть взгляд мой отражение найдёт
в твоих глазах и вызовет смятенье,
пусть будет лучше и смелее тот
из нас двоих, кто станет отраженьем.
преследуя несбыточный баланс
гармонии, в толпе мелькают лица,
и смотрят вверх, выгадывая шанс
в хрустальном небосводе отразиться.
Мороз поверх стекла нанёс узор,
и сквозь узор не виден мир в упор.
так, в память окунув свои персты,
стирает смерть сознания черты.
иллюзии узором обозначен,
мир строгих форм вниманием утрачен,
фантазией себе на откуп дан,
подсовывает пристальный обман.
сквозь ледяную мглу, узор мороза
дыханье топит лёд, и льются слёзы.
становится прозрачным глаз стекло,
а в них – светло. а в них – белым-бело.
вот льдинки завитушечка поплыла:
я был, была. я было – и забыло.
Художница, макающая кисть
в тяжёлые свинцовые белила,
прошу тебя, скорей угомонись,
меня твоё искусство утомило.
тобою изуродован портрет:
глаза и рот подёрнуты туманом,
и нет холста, и рамы тоже нет,
а есть лишь штукатурки панорама.
титан, цирконий, цинк, сульфат и мел
свели на нет ландшафт лица и тела.
я побелел и весь окостенел,
и ты сама как труп окоченела.
среди всей этой мёртвой чистоты
и белизны, несовместимой с чувством,
я говорю: мне ненавистна ты,
твой белый фартук и твоё искусство.
Я видел, как виолончель
несли по улице в метель:
и вой пурги, и ветра свист,
и щуплый виолончелист
с обледенелой сединой
слились в мелодии сквозной.
в его футляре спит богиня,
а всюду – изморозь и иней.
мятежный дух и белый пух,
и ничего нет, кроме двух.
Ты больная, я больной:
что же делать остаётся?
человек ревнует Солнце
к стратосфере ледяной,
человек сидит на крыше,
щурит узенькие глазки,
он в тетрадку что-то пишет
и цепляется за край,
а вокруг палитры улиц,
а вокруг цвета и краски,
караваны пешеходов,
кого хочешь выбирай.
человек ревнует Бога
к черномазому котёнку:
ты, котёнок, чист и предан
и совсем лишён ума.
обожаемое Солнце
он фиксирует на плёнку,
сигарету вкусно курит,
вылезая из окна,
а на улице Чайтанья
пляшет, руки поднимая,
а на улице молитва
светофоров, фонарей.
я больной, и ты больная,
ничего не понимаю,
мне нужна сестра и ситтер,
обними меня скорей.
Господь! благослови февраль
за льдинок тающий хрусталь,
за снега вязкую нугу,
за неба радугу-дугу.
господь! благослови собак
за мужество идти во мрак
без колебаний и испуга,
за теплоту. за верность другу.
поэзию благослови,
вдохни в неё словарь любви:
узоры рифмы – не развидеть.
Бог не умеет ненавидеть.
А на экране слова: их миллион, вагон,
их – бесконечный конвейер сматывает в рулон,
скроллится лента: show must go on[2].
с кроликами растёт пожирающий их питон.
есть километры картин, композиция их проста:
ей не хватает восьмидесяти до ста,
ну а уста – требуют внутрь перста.
геолокация: Сызрань, Казань, Элиста.
видел во сне: в поле несётся конь,
всадник привязан к коню, рвёт на себе гармонь,
лошадь по кругу меня обогнула пять раз,
собственно – весь рассказ.
сказано мною, не мной, в ответ на вопрос и вдруг,
что все процессы земли собой образуют круг,
жизнь – циркулярна, и этот её циркуляр
тоже бесценный дар.
скроллится лента, вечный уроборос,
стон прорастающих внутрь головы волос,
или цепней, вылупляющихся из пор,
или мостов без опор.
или ответ на вопрос?
нужен финал, да вот только в моём уме
ржание и блеяние вместо краткого резюме,
впрочем, ясно, к чему я речи свои клоню:
привяжите меня к коню.

Во имя истины во лжи
мы пребывая, точим зубы.
и зубы наши – как ножи:
искромсаны язык и губы.
во имя дружбы – предаём,
во имя верности – танцуем,
и нашей совести объём
огромен, но недоказуем.
как честен грех, как свят порок,
без масок, лозунгов, регалий:
когда ты выучил урок
и впредь не путаешь педали.
Хрущёвская однушка,
узор из кирпичей:
ты разбросал игрушки,
ты наметал харчей.
в окне бормочет ясень,
а сзади с калашом,
безумен и прекрасен,
танцует нагишом
лиловый Мефистофель,
твой самый лучший друг.
почисти-ка картофель.
порежь помельче лук.
тушить на сковородке
на медленном огне.
вся жизнь на перемотке
и уместилась в дне.
довольно скромный завтрак,
обед на пять персон.
но не наступит завтра,
и не случится сон.
ты никому не нужен.
ты сам себя достал.
себе сварил на ужин
ты фенобарбитал.
и этот ужин вечен.
сто тысяч раз подряд
тобою будет встречен
твой персональный ад:
хрущёвская однушка,
часы под потолком,
а из часов кукушка
разбита молотком.

Ямб захворал и рифму уронил.
он побледнел, он заболел верлибром.
ты помнишь этот кегельбан над Тибром,
куда ты после смены заходил?
там наливали кьянти и в дыму
жестикулировал пьянющий завсегдатай,
и по негласным правилам всегда ты
шёл поклониться именно ему.
и замок ангела, и круглый колизей,
и прочие руины цивитата,
наполнены движением когда-то,
сданы в архив, превращены в музей.
музей, греко-латинский кабинет:
гербарии, иконки, статуэтки,
прекрасной юной университетки
давным-давно подаренный портрет.
aere perennius[3]: окислилась вся медь,
зелёная коррозия бессмертия
покрыла город и поймала в сеть
все изваяния, жаждущие смерти.
знакомы бюстов гордые черты,
мы здесь обречены перерождаться.
смотрел на памятник, подписанный – Гораций,
но пригляделся, друг мой, это ж ты.
недолговечна медь, она – металл,
век медный тоже, друг мой, быстротечен,
и статуи гекзаметр не вечен,
когда разбит латыни пьедестал.
ты за рулём фиата очень мил,
утилитарность вкусу не помеха,
фиату свойственно изящество доспехов,
которые ты, впрочем, не любил.
сегодня рождество и валит снег,
и множество народа в кегельбане.
на рождество мы с другом ходим в баню
уже который год, который век.
Я буду говорить, и задрожит динамик,
пространство искривляя между нами.
я буду говорить: мой голос из предмета
прольётся – проявитель из кюветы.
неповторимо сочетание света
и тени, тишины и крика,
зиры, кумина, лавра, базилика.
в кунжутном масле прокипячены,
они стать вкусом дня обречены,
как голос обречён на интонаций
нелепую игру. желание касаться
тревожит кожу и сверлит кору.
оно – предвосхищение побега.
ноябрь затянулся, жаждет снега.
взгляд трогает поверхность поутру.
я буду говорить о ноябре,
о снеге, горизонте и тумане,
о том, что жизнь поставила тире
между сезонами, людьми и временами.
тире – есть прочерк, прочерк между нами,
подобен он, конечно же, дыре.
зима, приди, укрой дыру шелками
и выбели, умой усталый год,
приподними нависший небосвод
с набухшими сырыми облаками.
увядший, заблудившийся в свободе,
я буду говорить о небосводе,
о скуке, о тоске, о непогоде.
и то, что я скажу – произойдёт.

Я вижу замок изо льда,
блестит его слюда.
она – вода, одна вода,
замёрзшая вода.
я вижу облаков стада,
ландшафты сизых туч.
они – вода, одна вода.
я знаю: мир текуч.
Жужжит машина, шестерёнками кружа,
и маятник, немного дребезжа,
дугу так неизменно повторяет,
как будто он упорно сотворяет
свой идеал в текстуре траекторий,
границу между воздухом и морем,
чтоб на воды поверхность набегать,
и к берегу нестись, и возвращаться вспять,
и о песок с разбегу разбиваться,
нырять вовнутрь – наружу подниматься,
он маятник – он создаёт волну,
одну – но идеальную одну.
монометр, хронометр, маяк,
и звук его передаваем так:
тик-так, динь-дон, туда-сюда,
нет – да, нет – да, нет – да, нет – да.
он гравитацией пленён, он так устроен:
он есть – и восхищения достоин.
Воистину волшебный водоём
был найден нами – мы оттуда пьём
живую восхитительную влагу
и переносим чувства на бумагу.
в меня язык вложив, мой важный враг
меня собой не делает – дурак,
а сам становится влагающим со мною:
на этом я стою и этого я стою.
единожды солгав, мой сладкий вор,
в своей же лжи увязнешь как топор.
я в ложь твою топор не зря втыкаю,
да, я теку, но я не протекаю.
да, я теку, и ты – теки.
скудны суровые пески,
они костлявы и сухи
и к сердца голосу глухи.
Прохлада мною овладела,
поверхность глаза запотела,
в слезах – тревоги конденсат,
и внутрь зрачки мои глядят.
что вижу я? – ничто я вижу!
я рыжиной кудрявой брызжу,
каплеобразные ухмылки
стекают кровью по затылку.
воспринимая тот поток,
мечтаю совершить глоток.
журча, смеётся камня речь,
и рот – дыра, прореха, течь.
Он приходил в себя в постели,
перебирая поимённо
всех, кто исчез из Вавилона
с печатью Дьявола на теле.
он – психопат и лжепророк,
перевирающий ученье:
проникнув в зону помрачения,
в ней осознать себя не смог.
но милосердное перо,
кровоточа, вонзалось в струны,
когда далёкий свет межлунный
преображал его в Пьерро.
он пел для тех, кто уцелел,
о тех, кто выдержать не смог,
и мел белел, и рот алел.
как вход. и выход. и порог.
В пороге металлической стремнины
плыву среди задумчивых людей;
я глаз не отвожу, но вижу – только спины
и думаю о ней, и думаю о ней.
камлание, грохот, хохот, пианино
в компании такой звучит ещё нежней;



