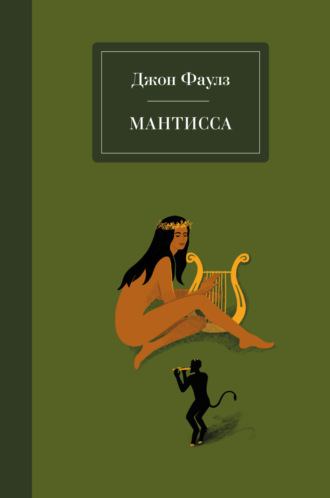
Джон Фаулз
Мантисса
Тогда, тщательно исследовав свое «Я», я понял, что могу вообразить, что у меня нет тела, что внешнего мира не существует и не существует места, где я нахожусь, но, несмотря на это, я не могу вообразить, что я не существую; напротив, самый тот факт, что я могу подвергнуть сомнению реальность других предметов, заставляет сделать ясный и четкий вывод, что я существую; в то время как, если бы только я перестал мыслить, даже в том случае, если бы все, о чем я когда бы то ни было успел помыслить, соответствовало действительности, у меня не было бы основания полагать, что я существую: отсюда я заключил, что я есть существо, чья суть, или природа, заключается в мышлении и не только не нуждается в месте существования, но и не зависит в своем существовании от каких бы то ни было материальных предметов. Следовательно, это «Я», то есть душа, благодаря которой я есть то, что я есть, совершенно отлична от тела, легче познается, чем тело, и, более того, не перестанет быть тем, что она есть, даже если бы тела не существовало.
René Descartes. Discours de la méthode{1}
СИЛЬВИЯ. А теперь будем серьезны. Звезды предрекают, что я выйду замуж за человека выдающегося, и я ни на кого другого и смотреть не стану.
ДОРАНТ. Если бы речь шла обо мне, я чувствовал бы себя в опасности: вечно боялся бы, вдруг ваш гороскоп сбудется – с моей помощью. В астрологии я абсолютный атеист… зато в личико ваше верю свято.
СИЛЬВИЯ (себе под нос). Вот назола! (Доранту.) Прекратите-ка эти ваши штучки! Вы к моей судьбе касательства не имеете. Вам-то что за дело до моего гороскопа?
ДОРАНТ. А то, что там не предсказано, что я не влюблюсь в вас.
СИЛЬВИЯ. Ну и что? Зато там предсказано, что на пользу это вам нисколечко не пойдет, и слово даю – это уж точно. Полагаю, вы окажетесь способны говорить о чем-нибудь, помимо любви?
ДОРАНТ. Если только вы окажетесь способны ее не пробуждать.
СИЛЬВИЯ. Ну в самом деле, это возмутительно! Я вот-вот выйду из себя. Раз и навсегда приказываю вам перестать быть в меня влюбленным!
ДОРАНТ. Как только вы перестанете быть!
Marivaux. Le Jeu de l’amour et du hasard{2}
John Fowles
MANTISSA
Copyright © 1982 by John Fowles
© Бессмертная И., перевод на русский язык, 2012
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2012
I
Их обычно изображали в виде юных, прекрасных, застенчивых дев, любивших уединение; они чаще всего являлись в разных одеждах, соответствовавших тем искусствам либо наукам, которым покровительствовали.
Lemprière. Under «Musae»{3}
ОНО сознавало, что погружено в пронизанную светом бесконечную дымку, как бы парит в ней, словно божество, альфа и омега{4} сущего, над океаном легких облаков, и смотрит вниз; потом, после неопределенно долгого перерыва, уже не испытывая такого блаженства, ОНО восприняло чуть слышимые звуки, размытые тени где-то на периферии сознания… Это резко уменьшило ощущение бесконечности пространства, витания в эмпиреях, создав впечатление чего-то гораздо более тесного, вовсе не такого вместительного и дружелюбного. Оттуда, словно в неотвратимом стремительном падении, ОНО услышало, как тихие звуки нарастают, обращаясь в голоса, увидело, что размытые тени фокусируются, превращаясь в лица. Будто в неизвестном иностранном фильме – ничто не казалось знакомым: ни язык, ни место действия, ни состав исполнителей. Образы и эмблемы проплывали, то сливаясь на миг, то разделяясь вновь, как мириады амеб в озерной воде, в деловитой, но бесцельной суете. Эти сочетания форм и ощущений, соединения морфем и фонем возвращались теперь, как алгебраические формулы школьных дней, когда-то бессмысленно заученные наизусть и навсегда отложившиеся в мозгу, хотя к чему их можно было бы теперь применить, зачем они вообще существуют – давным-давно накрепко забыто. ОНО явно обладало сознанием, но не обладало ни местоимением – тем, что позволяет отличить одну личность от другой, ни временем, что позволяет отличить настоящее от прошлого и будущего.
Еще некоторое время блаженное ощущение превосходства, сознание, что каким-то образом удалось взобраться на самый верх некоего нагромождения, сосуществовало с этим чувством безличности. Но вскоре и это ощущение было жесточайшим образом рассеяно неумолимым демоном реальности. Головоломный психологический кувырок, и ОНО оказалось вынужденным сделать неминуемый вывод, что вместо величественного парения в стратосфере, на ложе из ямбических пятистиший, ОНО на самом деле лежит на спине в обыкновенной кровати. Над головой – настенная лампа: аккуратный прямоугольник, перламутрово-белый пластмассовый плафон. Свет. Ночь. Небольшая серая комната – светло-серая, такого цвета бывают крылья у серебристой чайки. Лимб, где никогда ничего не происходит, терпимое ничто. Если бы не две женщины, пристально глядящие сверху вниз – на него.
Безмолвный упрек на том лице, что поближе и потребовательнее; ОНО вынуждено волей-неволей сделать еще один вывод: по какой-то причине именно ОНО оказалось в центре их внимания и даже стало чем-то вроде «Я». Лицо улыбнулось, склонилось, на нем появилось выражение сочувственно-скептической встревоженности, чуть окрашенной подозрением, – а не симуляция ли все это?
– Дорогой?
Новый, болезненно быстрый и уничижительный всплеск интуиции, и ОНО осознает, что ОНО не просто «Я», но «Я» мужского рода. Вот откуда, по всей вероятности, явилось это заполонившее его чувство приниженности, бессилия, тупости. ОНО, «Я», то есть, скорее всего, – он, наблюдал, как губы плавно опустились, словно на парашюте, и приземлились прямо посреди его лба. Прикосновение и аромат – это уже не могло быть ни фильмом, ни сном. Теперь это лицо нависает над ним. Из ярко-красного овала исходят слова:
– Дорогой, ты знаешь, кто я?
Он молча смотрит.
– Я – Клер, разве неясно?
Вовсе не ясно.
– Я твоя жена, дорогой. Вспоминаешь?
– Жена?
Странное, тревожное чувство: он понимает, что что-то сказал, но лишь потому, что источник звука так близко. В карих глазах над ним – тень обиды: ужасающее предательство, супружеская неверность. Он пытается соотнести произнесенное слово с этой личностью, личность – с самим собой; не удается; тогда он переводит взгляд на лицо той, что помоложе и стоит подальше, с другой стороны кровати: она тоже улыбается, но равнодушно-профессионально. Эта другая личность – руки в карманах – наблюдает, явно в состоянии профессиональной готовности; на ней белый медицинский халат. Теперь и ее рот порождает слова:
– Вы можете назвать свое имя?
Ну разумеется! Имя! Никакого имени. Ничего. Ни прошлого, ни – где, ни – откуда. Пропасть осознана, и почти одновременно приходит сознание непоправимости. Он отчаянно напрягает силы, как падающий, что пытается удержаться, но того, за чем он тянется, за что хочет ухватиться, – этого просто нет. Он пристально смотрит в глаза женщины в белом халате в неожиданном приступе всепоглощающего страха. Она подходит чуть ближе:
– Я – врач. Это ваша жена. Будьте добры, посмотрите на нее. Вы ее помните? Помните, что видели ее раньше? Что-нибудь о ней помните?
Он смотрит. На лице жены – ожидание, надежда и в то же время боль, чуть ли не обида, будто владелица этого лица оскорблена и бессмысленностью процедуры, и его молчаливым пристальным взглядом. Она кажется изнервничавшейся и уставшей, она слишком ярко накрашена, и вид у нее такой, будто она надела маску, чтобы сдержать рвущийся наружу вопль. А кроме всего прочего, она требует от него того, чего он дать ей не в силах.
Рот ее начинает исторгать имена – имена людей, названия улиц, домов, городов, разрозненные фразы. Может, он и слышал их раньше, как и другие слова, но он и представления не имеет, с чем они должны соотноситься и почему; чем дальше, тем больше они звучат как свидетельство совершенных им преступлений. Наконец он качает головой. Ему хотелось бы закрыть глаза, обрести покой и – в покое – снова все забыть, снова слиться с чистой страницей забвения.
– Дорогой, ну пожалуйста, попробуй. Прошу тебя! Ну ради меня! – Она ждет секунду-другую, потом поднимает взгляд на врача: – Боюсь, это бесполезно.
Теперь над ним склоняется врач. Он чувствует, как ее пальцы осторожно раздвигают ему веки – она разглядывает что-то в его зрачках. Улыбается ему, будто он ребенок.
– Это – отдельная палата в больнице. Здесь вы в полной безопасности.
– В больнице?
– Вы знаете, что такое больница?
– Катастрофа?
– Перебой в подаче энергии. – Слабый намек на иронию оживляет ее темные глаза, благословенная соломинка утопающему – юмор. – Мы скоро включим вас снова.
– Не могу вспомнить, кто…
– Да, мы понимаем.
Другая женщина произносит:
– Майлз?
– Что такое «майлз»?
– Твое имя, дорогой. Твое имя – Майлз Грин.
Легкий промельк, незнакомый предмет, словно крыло летучей мыши во мгле, исчезает чуть ли не до того, как удается его заметить.
– А что случилось?
– Ничего особенного, дорогой. Все поправимо.
Он понимает – это неправда, и она понимает, что он понял.
Что-то слишком много получается понимания.
– Кто вы?
– Клер. Твоя жена.
Она опять произносит это имя, но теперь с вопросительной интонацией, словно и сама усомнилась – она ли это. Он отводит глаза, смотрит в потолок. Странный какой-то потолок, но успокаивает; серебристо-серый, как чайка; да, чайки… чаек он знает; потолок чуть изогнут, образуя неглубокий купол, весь в маленьких квадратиках, будто простеган или подбит ватой, каждый квадратик – выпуклый, навесной, с небольшой обтянутой мягкой материей пуговкой в центре. Впечатление такое, будто он состоит из бесконечных рядов кротовин или муравейников, перевернутых вверх дном. Где-то в воцарившейся на миг тишине раздается новый, навязчивый звук, не замеченное до сих пор тиканье часов. Врач снова склоняется над ним:
– Какого цвета у меня глаза?
– Темно-карие.
– А волосы?
– Темные.
– Цвет лица?
– Бледный. Гладкая кожа.
– Сколько мне лет, по-вашему? – Он молча смотрит. – Попробуйте угадать.
– Двадцать семь. Восемь.
– Отлично. – Она одобрительно улыбается, потом продолжает – деловым, нейтральным тоном: – Так. Кто написал «Записки Пиквикского клуба»?
– Диккенс.
– «Сон в зимнюю ночь»? – Он опять молча смотрит. – Не знаете?
– «В летнюю».
– Прекрасно. Кто?
– Шекспир.
– Какое-нибудь действующее лицо в пьесе помните?
– Боттом. – Подумав, добавляет: – Титания.
– Почему вам запомнились именно эти двое?
– Бог его знает.
– Когда в последний раз вы видели ее на сцене?
Он закрывает глаза – думает; потом опять открывает их и качает головой.
– Не существенно. Ну-ка, восемью восемь?
– Шестьдесят четыре.
– От тридцати – девятнадцать?
– Одиннадцать.
– Очень хорошо. Высший балл.
Она выпрямляется. Он хотел бы объяснить, что все ответы взялись ниоткуда и то, что он загадочным образом оказался способен отвечать правильно, только усилило непонимание. Он делает слабую попытку сесть, но что-то его удерживает… он плотно закутан в простыню, одеяло тщательно подоткнуто под матрас да к тому же – слабость, которой нет желания противиться, словно в ночных кошмарах, когда между желанием двинуться и самим движением лежит бесконечность… бесконечное пространство детской кроватки.
– Лежите спокойно, мистер Грин. Вам ввели успокоительное.
Тайная тревога возрастала. И все же, видимо, можно было доверять этим настороженным, настойчивым темным глазам. В них виделась приглушенная ирония давнего друга – друга противоположного пола; сейчас взгляд был совершенно отстраненным, но в нем можно было заметить слабую тень более нежной заинтересованности. Другая женщина погладила его по плечу, снова претендуя на свою долю внимания.
– Нам надо перестать волноваться. Отдохнуть. Всего несколько дней.
Он неохотно переводит взгляд на ее лицо; это «нам» вызывает инстинктивное желание противоречить.
– Я вас никогда раньше не видел.
Женщина издает смешок, короткий и почти беззвучный, будто это кажется ей забавным: какая нелепость!
– Боюсь, все-таки видел, дорогой. Каждый день на протяжении последних десяти лет. Мы ведь муж и жена. У нас – дети. Ты должен это помнить!
– Я ничего не помню.
Она глубоко вздыхает и опускает голову; потом снова поднимает глаза на женщину-врача, стоящую по ту сторону кровати; но теперь он ощущает, что, укрывшись за профессионально сдержанной манерой, врач разделяет его возрастающую неприязнь к этому стремлению – пусть и не выраженному словами – обвинить, связать моральным императивом. Женщина слишком уж настаивает на своем праве обладания им, а ведь человеку необходимо прежде всего знать, кто он, только тогда он может захотеть, чтобы им обладали. Его охватывает непреодолимое желание остаться в неприкосновенности: пусть он – объект, на обладание которым она, может, и претендует, с этим бороться он не в силах, но он не ручной зверек, чтобы так легко поддаться этим ее претензиям. Лучше всего снова погрузиться в ничто, в лимб, в серебристо-серую, чуть слышно тикающую тишину. Он медленно опускает веки. Но почти в тот же момент раздается голос врача:
– Я хотела бы начать кое-какие предварительные процедуры, миссис Грин.
– Конечно, конечно. – Он замечает умильную улыбку на женолице, взгляд устремлен на противоположную сторону кровати, женщины смотрят друг на друга. – Такое облегчение – знать, что он в хороших руках. – Молчание. Потом она продолжает: – Вы ведь сразу же дадите мне знать, если…
– Сразу же. Не волнуйтесь. Неспособность ориентироваться в первое время – явление совершенно нормальное.
Женщина – его предполагаемая жена – снова смотрит вниз, на него, все еще не убежденная, все еще молча обвиняющая. Он вдруг понимает, впрочем, испытывая не сочувствие, а раздражение, что она ужасно взволнована: рецепта, как справляться с подобными ситуациями, у нее нет.
– Майлз, я завтра опять приду. – Он не отвечает. – Пожалуйста, постарайся помочь доктору. Все будет хорошо. Дети по тебе страшно скучают. – Она делает последнюю отчаянную попытку: – Джейн? Том? Дэвид?
Льстивый голос, слова гораздо больше похожи на давно просроченные счета за былые бессмысленные траты, чем на имена детей. Она опять вздыхает, наклоняется, быстро, словно клюет, целует его в губы: я водружаю здесь свой флаг. Это моя земля.
Он не стал смотреть, как она уходит, лежал, глядя в потолок; руки под простыней спокойно вытянуты вдоль боков. Обе женщины, тихонько беседуя, остановились у двери – вне его поля зрения. Успокоительное. Перебой в подаче энергии. Операция. Он пошевелил ступнями, потом провел ладонью по внешней стороне бедер. Голая кожа. А выше? Тоже голая кожа. Дверь закрылась. Женщина-врач снова оказалась рядом с ним. Протянула руку, нажала кнопку звонка у кровати и с минуту пристально разглядывала лежащего.
– Попробуйте понять – для них это тоже потрясение, шок. Люди обычно не осознают, насколько они зависят от возможности быть узнанными, ведь именно это служит им доказательством их существования. Когда случается что-то вроде того, что произошло сейчас, они пугаются. Чувствуют себя незащищенными. Понятно?
– На мне ничего нет.
Мимолетная улыбка – из-за этакого поп sequitur[1], a может быть, из-за того, что утрата одежды шокировала его больше, чем потеря памяти.
– А вам ничего и не нужно. Здесь очень тепло. Слишком тепло, по правде говоря. – Она касается своего белоснежного халата. – Я под халат вообще ничего не надеваю. Термостат здесь дает слишком высокую температуру, мы все жалуемся на это. И окон тут нет. – Пауза. – А вы знаете, что такое термостат?
– Некоторым образом.
Он приподнимает голову, вытягивает шею – впервые пытается осмотреть комнату. И правда, окна здесь нет, почти нет мебели, только небольшой столик и стул в дальнем левом углу, если смотреть от кровати, где он лежит. Стены обиты такой же серой стеганой, словно одеяло, материей, как и потолок. Даже дверь напротив изножья кровати обита так же. Только пол пощадили, будто пытаясь скрасить однообразие всего остального: он укрыт толстым тускло-розовым, почти телесного цвета, ковром; такой оттенок художники когда-то называли «цвет увядающей розы». Стеганое одеяло… обивка… тюрьма… Он не улавливал связи, но уставился в глаза женщины-врача, и она, как видно, догадалась о том, чего он не смог выразить словами.
– Это – для тишины. Последнее слово науки. Акустическая изоляция. Мы переведем вас, как только вы начнете выздоравливать.
– Часы.
– Да. – Она указала рукой.
Они висели на стене позади него, слева, ближе к углу комнаты, нелепо вычурные и разукрашенные швейцарские часы с кукушкой; там были и альпийские взгорья, и целый сонм неясных фигур – крестьяне, коровы, альпийские пастушьи рожки, эдельвейсы и бог знает что еще; все это было выточено и вырезано на каждом свободном дюйме коричневого деревянного циферблата.
– Их оставил нам предыдущий пациент. Джентльмен из Ирландии. Мы подумали, они несколько оживят обстановку.
– Но они ужасны.
– Они не будут вас беспокоить. Мы отсоединили ударный механизм. Они больше не кукуют.
Он не отводил взгляда от кошмарных часов, от их безумно перегруженного циферблата, цепей и гирь, напоминающих выпавшие внутренности. Они его очень беспокоили, символизируя что-то, чего он боялся, хотя и не мог сказать почему; они были аномалией, неуместным напоминанием обо всем, чего он не мог вспомнить.
– А он вылечился?
– Его случай был очень сложным.
Он поворачивает голову и снова смотрит на врача:
– Не вылечился?
– Я расскажу вам о нем, когда вы почувствуете себя лучше.
Он пытается переварить сказанное:
– А это не…
– «Не» – что?
– Сумасшествие?
– Господи, конечно нет! Вы так же разумны, как и я. Возможно, даже больше, чем я.
Теперь она садится на край кровати, скрестив на груди руки, поворачивается к нему лицом, и они ждут, чтобы кто-то явился на звонок. В верхнем кармане ее халата – две ручки и футляр от термометра. Темные волосы стянуты в строгий узел на затылке, лицо не подкрашено, однако в нем заметна какая-то элегантность, что-то классическое, средиземноморское. Чистая, гладкая кожа, за ее бледностью чувствуется теплота, возможно, тут есть частица итальянской крови; впрочем, нельзя сказать, что она не типичная англичанка: манера поведения выдает прекрасное воспитание и происхождение, может быть, даже высокое; она похожа на молодую женщину, чей интеллект потребовал, чтобы она выбрала себе серьезное занятие, а не проводила дни в праздности. А может быть даже, подумал он, она еврейка, отпрыск одного из тех выдающихся семейств, что с давних пор сочетают крупные капиталы с глубокой ученостью и служением обществу… Тут он удивился, как это он вообще оказался способен подумать об этом. Она протягивает руку и гладит его бок – старается приободрить:
– С вами все будет в порядке. У нас бывали случаи и похуже.
– Я будто снова стал ребенком.
– Я знаю. Лечение может сразу не дать результатов. Мы оба должны проявить терпение. – Она улыбается. – Взаимопомощь, так сказать. – Она поднимается и снова нажимает кнопку звонка у кровати, потом опять садится.
– А где мы?
– В Центральной. – Она наблюдает за ним. Он качает головой. Она опускает глаза, с минуту молчит, потом смотрит на него; в глазах мелькает уже знакомая ирония – готовится новый тест. – Я здесь затем, чтобы заставить вашу память снова функционировать. Ну-ка, пошарьте в ней! Все знают, что такое Центральная.
Он шарит; потом каким-то странным образом до него доходит, что это – пустая трата времени и что гораздо мудрее будет даже и не пытаться. Было вовсе не так уж неприятно – после первого потрясения – сознавать, что ты напрочь отрезан от того, кем был или мог быть; от тебя ничего не ждут, ты освободился от ноши, о которой раньше вроде бы и не помнил, однако теперь, когда ее не стало, понял, что она была, эта тяжесть, которой никогда раньше не замечал, но теперь всем своим психологическим хребтом ощутил огромное облегчение. А более всего ощущение отдыха и покоя возникало от сознания, что он попал в руки этой спокойной и компетентной женщины, доверен ее заботам. Из расходящихся уголком лацканов белого халата виднелись стройная шея и нежное горло.
– Хочется взглянуть на свое лицо.
– Пока что я ваше зеркало.
Он вглядывается в это зеркало: ничего определенного в нем не разглядеть.
– Со мной случилось несчастье?
– Боюсь, что да. Вас превратили в жабу.
Очень медленно, разглядев что-то в ее глазах, он соображает, что его пытаются шуткой отвлечь от тревожных мыслей. Ему удается слабо улыбнуться. Она говорит:
– Вот так-то лучше.
– А вы знаете, кем я был?
– Кто я есть.
– Есть.
– Да.
Он ждет продолжения. Но она смотрит на него и молчит: еще один тест.
– Вы мне не скажете?
– Это вы мне скажете. Скоро. На днях.
Он молчит: минуту, две…
– Я думаю, вы…
– Я – что?
– Ну, знаете… кушетки…
– Психиатр?
– Вот-вот.
– Невропатолог. Нарушение функций мозга. Моя специальность – мнемонология.
– Что это?
– Как память работает.
– Или не работает.
– Иногда. Временно.
Узел ее волос завязан у затылка тоненьким шарфиком – единственная женственная деталь в ее одежде. На концах шарфика узор – мелкие розы перемежаются россыпью овальных листьев: черное на белом.
– Я не знаю, как вас зовут.
Сидя на краю кровати, она поворачивается к нему всем корпусом, приподнимает большим пальцем лацкан халата. На лацкане – бедж: «Доктор А. Дельфи». Но тут будто даже эта бюрократическая мелочь, касающаяся ее персоны, кажется ей нарушением строгих клинических правил, она поднимается на ноги.
– Да где же эта сестра, наконец?
Она идет к двери и выглядывает в коридор – видимо, напрасно, потому что снова возвращается к кровати и нажимает кнопку звонка – теперь звонит долго и настойчиво. Смотрит вниз, на него, с печальной иронией сжав губы: дает понять, что не он причина ее раздражения.
– Я давно здесь?
– Всего несколько страниц.
– Страниц?
Она скрестила руки на груди и снова – иронический вопрос в ее внимательно следящих за ним глазах.
– А что я должна была сказать?
– Дней?
Она улыбается более открыто:
– Отлично.
– А зачем вы сказали «страниц»?
– Вы утратили идентичность, мистер Грин. Я должна работать с вами, основываясь на вашем собственном чувстве реального. А оно, кажется, в полном порядке.
– Будто багаж потерял.
– Лучше багаж, чем руки-ноги. Так считается.
Он рассматривает потолок, пытаясь изо всех сил вновь обрести прошлое, место в пространстве, цель.
– Наверное, я пытаюсь от чего-то уйти?
– Возможно. Потому-то мы здесь, с вами. Помочь вам просечь то, что позади. – Она касается его обнаженного плеча. – Но сейчас самое важное – не волноваться. Просто отдыхайте.
Она снова направляется к двери. За дверью – странная тьма, он ничего не может разглядеть. Он снова смотрит в потолок, на этот неглубокий купол, на целый лес нависших над ним бутонов, каждый из которых завершается пуговкой. Серого цвета, они все равно походили на груди: ряд за рядом эти юные девичьи груди образовывали над ним полог из нежных округлостей, увенчанных сосками. Ему захотелось указать на это доктору, но она по-прежнему ждала у открытой двери, а потом какой-то инстинкт подсказал ему, что такое он не может сказать женщине-врачу. Это слишком личное, каприз восприятия, это может ее оскорбить.
Наконец врач оборачивается. Кто-то поспешно входит в палату за ее спиной: молодая сестра, явно уроженка Вест-Индии, белая шапочка и смуглое лицо над крахмальной белой с голубым униформой. Через руку перекинут сверток красных резиновых подстилок. Она скашивает глаза на врача:
– На военной тропе – медсестра. Для разнообразия.
Врач умиротворенно кивает, потом произносит, обращаясь к пациенту:
– Это сестра Кори.
– Рады видеть вас, мистер Грин.
Он поднимает на сестру взгляд, на лице – глуповато-смущенная гримаса.
– Прошу прощения.
Она с шутливой строгостью поднимает палец:
– Никаких «прошу прощения». А то отшлепаю.
Миловидная девушка, чувство юмора, веселая повелительность тона. И – редкостное совпадение – при всей очевидности совершенно различного расового происхождения двух женщин глаза у сестры точно такого же цвета, что у врача.
– Закройте дверь, сестра, будьте добры. Я хочу начать предварительные процедуры.
– Обязательно.
И снова доктор Дельфи скрещивает руки на груди: это явно ее любимая поза. Ее взгляд, устремленный на него, на миг кажется удивительно задумчивым, будто она еще не окончательно решила, каким должен быть курс лечения, будто он для нее не столько живой человек, сколько трудная проблема. Но вот она чуть улыбается ему:
– Это не больно. Многие пациенты находят, что эти процедуры приятно расслабляют. – Она бросает взгляд на сестру, стоящую теперь по ту сторону кровати: – Начнем?
Они склоняются над ним и с привычной ловкостью высвобождают края простыни и одеяла из-под матраса, сначала с одной стороны, потом – с другой. Быстро и аккуратно сложенные в несколько раз, одеяло и простыня оказываются в изножье кровати. Он пытается сесть. Но они обе немедленно возвращаются и встают над ним, мягко, но непреклонно заставляя его снова лечь.
Доктор Дельфи говорит:
– Лежите тихо. Так, как есть.
Голос ее, по-прежнему спокойный, стал заметно более деловым; она замечает, что он смущен.
– Ну, дорогой мой, мы же медики: я – врач, а это – сестра. Мы видим голых мужчин каждый божий день.
– Да, – говорит он и добавляет: – Прошу прощения.
– Ну а сейчас мы постелим вам резиновую подстилку. Повернитесь ко мне. – Он поворачивается и чувствует, как сестра укладывает подстилку вдоль его спины. – А теперь на другой бок. Через завернутый край. Вот так. Отлично. Теперь – опять на спину. – Он смотрит в простеганный потолок. Подстилку расправляют и туго натягивают на матрас. – Теперь поднимите руки и заложите их за голову. Вот так. Отлично. Теперь закройте глаза. Я хочу, чтобы вы расслабились. Вы находитесь в самой лучшей из европейских клиник, занимающихся такими проблемами, как ваша. Процент излечений здесь очень высок. Вы уже не блуждаете бесцельно, вы – на пути к выздоровлению. Расслабьте мышцы. Освободите мозг. Все будет хорошо. – Она смолкла. – Так. Теперь мы проверим кое-какие нервные реакции. Не двигайтесь. Лежите совершенно спокойно.
– Хорошо.
Он послушно держит глаза закрытыми. Несколько мгновений тишины, только тиканье часов, потом врач тихо произносит:
– Начинайте, сестра.
Две легкие ладони касаются внутренней стороны его рук, закинутых на подушку, спускаются к подмышкам, гладят бока, останавливаются у тазобедренных суставов, чуть на них надавливая.
– Вам приятны мои руки, мистер Грин? Чувствуете их тепло?
– Да, благодарю вас.
Сестра убирает руки, но лишь на миг. Одна из ее ладоней умело приподнимает его безжизненно обмякший пенис, потом опускает его и остается на нем лежать. Пальцы другой руки обнимают мошонку и начинают осторожно ее массировать. Встревоженный, он открывает глаза. Врач наклоняется к нему:
– Нервный центр памяти в мозгу тесно связан с центром, контролирующим деятельность половых желез. Необходимо проверить, нормально ли они функционируют. Это рутинная процедура. Нет причин стесняться. Будьте добры, закройте опять глаза.
В ее взгляде уже нет ни юмора, ни суховатой иронии – только профессиональная серьезность. Он закрывает глаза. Массаж мошонки продолжается. Другая рука начинает поглаживать его пенис – снизу вверх. И хотя он никак не может расслабиться, эти манипуляции и правда кажутся ему всего лишь рутинной медицинской процедурой, и, как бы в подтверждение этому, доктор Дельфи затевает разговор с сестрой, через кровать, над его простертым телом:
– Удалось им что-нибудь сделать с той заглушкой?
– Смеетесь, что ли?
– Просто не знаю, что у нас творится с техобслуживанием. Чем больше жалуешься, тем дольше они тянут.
– Да они только и делают, что в карты дуются в котельной. Видала я их.
– Попробую напустить на них мистера Пикока.
– Удачи вам.
Глаза у него закрыты, но он угадывает, что доктору по душе молоденькая сестра, нравится ее саркастическое смирение; что они улыбнулись друг другу после этого ее пожелания. Рука продолжает: то легко сжимает его пенис, то поглаживает, то осторожно перекатывает в пальцах. Однако что-то в их разговоре его встревожило. Ему кажется, что он уже слышал что-то такое, какой-то разговор о больничных делах, пережил такое раньше, даже это вроде бы… но как могло такое произойти с ним и не запомниться?
Очень тихо доктор произносит:
– Реакция?
– Отрицательная.
Он чувствует, как по-прежнему безжизненный пенис приподнимают и дают ему снова упасть; затем процедура возобновляется. Пробиваясь сквозь туман, сквозь жестокую серую мглу амнезии, он отчаянно пытается восстановить утраченную конструкцию предыдущего опыта и знаний. Больницы, врачи, медсестры, лекарства… какое-то движение с той стороны кровати, где стоит доктор Дельфи.
– Дайте мне правую руку, мистер Грин.
Замерев, он не реагирует, но врач извлекает его руку из-под головы и поднимает вверх. Рука касается обнаженной груди. Потрясенный и напуганный, он открывает глаза. Доктор Дельфи склоняется над ним, белый халат распахнут, взгляд устремлен на стену над его головой: будто она всего-навсего щупает его пульс. Она кладет себе на грудь и другую его руку.
– Что вы делаете?
Она на него не смотрит.
– Пожалуйста, не нужно разговаривать, мистер Грин. Мне необходимо, чтобы вы сконцентрировали внимание на тактильных восприятиях.
Взгляд его движется вниз, вдоль распахнутых пол халата, затем – удивление его достигает наивысшей степени – снова вверх, к ее отвернувшемуся лицу. Он раньше не принял всерьез ее слов о том, что под халат она ничего не надевает.
– Не понимаю, что вы такое делаете.
– Я же вам только что объяснила. Проверяем ваши рефлексы.
– Вы хотите сказать…
Она опускает на него взгляд с явной долей раздражения.
– По всей видимости, вы уже давали нам образцы во время предыдущих обследований. Это точно такая же процедура.
Он убирает руку:
– Но я… Вы…
Ее голос становится неожиданно строгим и холодным:
– Послушайте, мистер Грин. У нас с сестрой масса других пациентов. Ими тоже нужно заняться. Вы же хотите вылечиться, правда?
– Да, конечно, только…
– Тогда закройте глаза. И ради всего святого, постарайтесь быть чуть более эротичным. Мы не можем потратить на вас весь день. – Она наклоняется над ним, опираясь руками по обе стороны подушки. – Задействуйте обе руки. Как и где угодно.
Но он лежит неподвижно, закинув руки за голову.
– Да не могу я! Я вас и не встречал в жизни ни разу. Хоть от Адама счет начинай.
Доктор Дельфи нетерпеливо вздыхает:
– Мистер Грин, если речь идет обо мне, прошу вас начинать не от Адама, а от Евы. Или вы пытаетесь дать мне понять, что предпочитаете, чтобы эти процедуры проводили медбрат и врач-мужчина?







