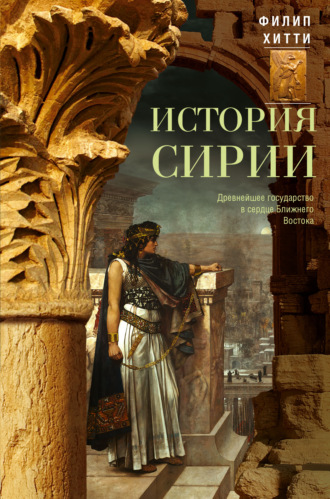
Филип Хитти
История Сирии. Древнейшее государство в сердце Ближнего Востока
Приток богатства в Рим в I веке до н. э. позволил значительно расширить применение пурпура, а затем стал причиной имитации красителя в Италии и других странах. На Востоке его производство продолжалось и после завоевания мусульманами; «тирский пурпур» упоминается среди предметов роскоши, привозимых венецианскими купцами в конце VIII века. После падения Византийской империи, где привилегия изготовления красителя ограничивалась тесным кружком мастеров, знание о технологии было почти полностью утрачено на Востоке. В Англии, куда ее завезли с Востока, она сохранялась в отдельных изолированных регионах еще в XVII веке.
Помимо пурпурного красителя ранние ливанцы ввели в древнюю торговлю кармин или кермес. Это алая – «червленая» – краска из Ветхого Завета[60], изготовляемая из насекомых – червецов, которые водятся на дубах определенного вида, растущих вдоль восточных берегов Средиземного моря. После высушивания и растворения в кислоте получали алый или густо-красный цвет. Сначала насекомых собирали в дикой природе, затем их стали разводить персы, а за ними – армяне.
Глава 9
Мореходство и расширение колоний
Финикийцы были первой нацией мореходов в истории. В то время как Ливанские горы затрудняли сообщение с внутренними районами страны, но поставляли превосходный корабельный лес, Средиземное море влекло к себе этих семитов с его восточных берегов, и в ответ они превратились из сухопутных кочевников в морских. Глубины не таили для них никаких ужасов, и неизвестное не столько пугало, сколько завораживало их. Начав с плаваний вдоль берега с целью торговли своим тунцом, стеклом, керамикой и другими местными товарами, впоследствии они переправились через открытое море и проложили восточный и западный торговые пути, которые долго оставались их монополией. Мелкие торговцы стали магнатами. Как типичные колонизаторы, они сеяли повсюду семена своей и соседней культуры, которую сделали приемлемой для чужеземцев. Особенно после XIII и XII веков до н. э. ханаанеи, вытесненные из Центральной Сирии арамеями, а из Южной Сирии – израильтянами и филистимлянами, направили свои силы к морю, чтобы стать, говоря относительно, величайшими мореходами и купцами во всей истории человечества.
Финикийцы не были теми морскими разбойниками, которыми их изображают предания. Скорее они следовали четко намеченному курсу, который сами впервые проложили и затем использовали, чуть ли не монополизировали. Их древнейшие международные пути соединяли Библ и другие порты с Египтом. Основные магистрали более позднего времени вели от Сидона и Тира мимо Египта или прямо на север к Кипру, поворачивали на запад под защитой Тавра, шли мимо Ликии, затем к южному берегу Родоса, Крита и Керкиры к Сицилии, далее мимо острова Коссира[61] к своим колониям в Северной Африке и, наконец, на запад вдоль побережья к своим колониям в Испании. Конечно, эти пути пересекались с северными и южными. Четыре главные статьи экспорта, которые отсутствовали в некоторых средиземноморских странах, впервые стали поставлять им финикийцы: лес, пшеницу, масло и вино. Для греков ливанский кедр был финикийский кедром. Позднее финикийцы стали перевозить продукцию двух своих ведущих отраслей: ткацкой и металлургической. Аллювиальный Египет отчаянно нуждался в древесине твердых сортов, как и Месопотамия для строительства своих дворцов и храмов, а также рыболовецких судов, торговых и боевых кораблей. Хвойные и смолистые леса Ливана с их елями, соснами, кедрами и терпентинными деревьями давали не только древесину, но и деготь и смолу, торговля которыми сопутствовала торговле лесом. Ими покрывали корабли для долговечности. Масло использовали при изготовлении духов и в пищу. По мере того как расширялся потребительский рынок финикийцев, они увеличили и свой рынок произведенных товаров, пока не превратились в посредников, распределяющих товары с Востока на Западе и немногие товары с Запада, в основном минералы и керамику, на Востоке. Средиземное море стало финикийским озером задолго до того, как таковым его стали считать греки или римляне.

Финикийская бирема. Торговый или боевой корабль с барельефа на стене дворца Синахериба. Ок. 700 г. до н. э. Гребцы размещались по пятеро в ряд на двух помостах на нижней палубе, общим числом двадцать человек. Пассажиры занимали верхнюю палубу. Нос поднимался перпендикулярно над окованным железом тараном, которым топили вражеские корабли
В своих стараниях наладить морскую торговлю с международным размахом финикийцы начали систематически изучать навигацию. Им приписывается открытие полезных свойств Полярной звезды, и они стали самыми древними мастерами искусства ночной навигации – прокладывания курса по звездам. Греки назвали эту звезду в честь финикийцев. Кедровые бревна, непревзойденные по прочности, сплавляли по дренажным потокам во время паводка в ближайшую гавань для строительства кораблей и на экспорт. Сидон и Тир получали свой хвойный лес с Хермона. Финикийские корабли примерно с 1400 года до н. э. изображались на египетских памятниках в форме полумесяца, с высокой кормой и носом, двумя крупными рулевыми веслами и двумя реями на мачте для крепления единственного квадратного паруса. Самые старые корабли, от которых у нас остались изображения, ходили и на парусах, и на веслах. Они были широкими, чтобы мог размещаться крупный груз, но при этом не очень длинными. Финикийские торговые суда и боевые корабли более позднего периода изображены на ассирийских памятниках с высокой кормой, остроконечным тараном спереди, который можно было использовать в бою, и с двойной палубой. Именно финикийские корабельщики первыми стали сажать два и более уровня гребцов друг над другом. На нижней палубе обычно располагались два ряда по четыре или пять весел в каждом, то есть всего от 16 до 20 гребцов. Число гребцов в более поздние времена достигало пятидесяти. На верхней палубе размещались пассажиры. Использовали только одну рею, а парус крепили, когда стояли на якоре или во время ненастья. Такого типа корабли заимствовали древние греки, как о том свидетельствуют рисунки на вазах. Корабли того же вида предположительно строили для Соломона «корабельщики, знающие море»[62], которых послал его друг, царь Тира Хирам, и стояли в Ецион-Гевере, морском порту Израильского царства в заливе Акаба на Красном море. Этим коротким путем они вывозили дерево и медь и взамен получали золото из Офира и ароматы и пряности из других частей Аравии, тем самым избегая необходимости пересекать Суэцкий перешеек. Другие товары страны, такие как рабы и лошади, отправляли в Египет в обмен на тамошние товары. Финикийские купцы в городах Дельты XII династии (1200–1090 гг. до н. э.) занимали особо видное место. В XIII веке в Мемфисе они, по-видимому, пользовались привилегией экстерриториальности – предшественники современных капитуляций.
Финикийцы были не только первым мореходным, но и первым земноводным народом в истории. Их торговые посты в глубине страны охватывали Эдессу и, возможно, Нисибис (современный Нисибин) и соединяли средиземноморские порты с факториями на Персидском заливе. По их собственному преданию, изначально финикийцы прибыли на сирийское побережье из местности в Персидском заливе, где у них были города с такими же названиями – Арад, Тир и Сидон[63]. В своей торговой главе (27) Иезекииль приводит живописное описание сухопутного и морского движения финикийцев в его разнообразных аспектах. Среди статей импорта он перечисляет серебро, железо, олово и свинец из Испании, рабов и бронзовые сосуды из Ионии, лен из Египта, овец и коз из Аравии.
Венцом мореходных достижений финикийцев было плавание вокруг Африки за две с лишним тысячи лет до португальских мореходов, которых обычно превозносят как первооткрывателей этого пути. Подвиг был совершен в правление фараона Нехо (609–593 до н. э.) XXVI династии, который вновь прорыл древний канал, соединявший восточный рукав Нила с Красным морем. Отправившись в плавание из этого моря, финикийские суда поплыли по южному океану. Когда приближалась осень, мореходы высаживались на берегу в том месте, где находились, сажали пшеницу, ждали урожая и затем уже трогались дальше в путь. Потратив таким образом два года, на третий они обогнули Геркулесовы столпы и вернулись в Египет. «По их рассказам (я-то этому не верю, пусть верит, кто хочет), во время плавания вокруг Ливии [Африки] солнце оказывалось у них на правой стороне»[64]. Эта последняя деталь, в которую «отец [греческой] истории» сам не верил, между тем как раз и подтверждает достоверность истории. Когда корабли плыли на запад вокруг мыса Доброй Надежды, солнце в Южном полушарии должно было быть от них по правую руку.

Везде, куда приплывали финикийцы, они начинали строить. Будучи представителями немногочисленного народа, они имели возможность проникнуть в новый регион, не вызывая больших подозрений со стороны местных, и в отсутствие общей политической жизни – без лишнего напряжения приспособиться к любой новой ситуации, примерно так же, как их современные потомки – ливанские эмигранты. Постепенно из них получились превосходные колонизаторы и организаторы. В, казалось бы, статичный мир они привнесли движение и расширили весь его горизонт. Одна за другой торговые фактории разрастались в поселения, а поселения одно за другим – в колонии, пока эти колонии, связанные между собой и метрополиями благодаря мореходному искусству, не раскинулись от дельты Нила в Египте, по киликийскому побережью до Греции и остальных городов Средиземного моря, превратив это море в то, что и означает его современное название, – море среди земель. Можно с уверенностью предположить, что их колонии в Восточном Средиземноморье, включая Кипр, появились раньше колоний Сицилии и Сардинии в Среднем Средиземноморье, которые, в свою очередь, появились раньше колоний в Северо-Западной Африке и Испании. Их поселения на островах среднего Средиземноморья восходят к середине XI века до н. э., если не дальше. Гадес (Кадис) в Испании и Утика в той части Северной Африки, которая ныне зовется Тунисом, были основаны около 1000 года до н. э.; они считаются одними из старейших в этих регионах. Название «Гадес» происходит от финикийского слова, означающего «стена», «огороженное место». Пока еще на Сардинии и Кипре не найдено ни одной финикийской надписи, сделанной ранее IX века до н. э.; знаменитая посвятительная надпись Баала Ливанского, найденная на Кипре и когда-то считавшаяся самым древним образцом финикийского письма, относится к середине VIII века до н. э. Основание Карфагена, блестящего сына Тира и самой прославленной из всех финикийских колоний, датируется примерно 850 годом до н. э. Он моложе своего собрата на западе – Гиппона, когда-то царской резиденции (отсюда его второе название – Регий, или Царский), а затем епархии святого Августина. Слово «Гиппон» ливийское. Ливия, греческое название Северной Африки и впоследствии всего континента, первоначально – как утверждает греческая легенда – было именем супруги Посейдона (бога моря) и матери Агенора, царя Финикии.
Кульминация этих колонизационных усилий в Западном Средиземноморье, очевидно, пришлась на период между серединой X и серединой VIII столетия до н. э. Их феноменальный успех предполагает существование слоя более ранних семитских переселенцев в Северной Африке и, возможно, южной части Пиренейского полуострова. Миграция, которая привела семитов в 3-м тысячелетии до н. э. и даже ранее в Египет, могла завести их и дальше. Расплывчатые остатки преданий, которые помещают древних семитов в регионы Западного Средиземноморья, сохранились в античной и арабской литературе[65].


Монета из Гадеса. Аверс и реверс бронзовой финикийской монеты из Гадеса (Кадиса). II в. до н. э. На изображениях тирский Мелькарт (Геракл) и знаменитые рыболовецкие промыслы. Американское нумизматическое общество
Основание Гадеса за Геркулесовыми столпами (противостоящие мысы, обрамляющие вход в пролив Гибралтар) позволило финикийцам познакомиться с Атлантикой и привело к тому, что древний мир открыл для себя существование океана. Это открытие считается одним из величайших вкладов сирийской цивилизации в прогресс человечества. Именно от финикийцев Гомер и Гесиод впервые узнали об Атлантике. Насколько далеко финикийцы проникли в океан, позднее названный арабами «Морем тьмы», установить непросто. Некоторые авторитеты утверждали, что они сумели добраться до английского Корнуолла в поисках олова, хотя ранних упоминаний об этом у нас нет. Геродот говорит, что ничего не знает о Касситеридах («Оловянных островах»), «откуда к нам привозят олово». Это острова Силли, лежащие недалеко от оконечности Корнуолла. Страбон, писавший около 7 года до н. э., утверждает, что на Касситеридах есть олово и свинец, которые местные жители обменивают на керамику, соль и медные инструменты и что в прежние времена только финикийцы вели эту торговлю из Гадеса, скрывая путь ото всех. Далее Страбон повествует, как однажды римляне задумали проследить за финикийцами. Желая тоже вести торговлю, финикийский капитан нарочно посадил свой корабль на мель и получил от государства возмещение стоимости потерянного таким образом груза – то есть, можно сказать, существовала буквальная монополия на оловянную торговлю и некая форма государственного страхования. Диодор Сицилийский[66], писавший через три четверти века после Страбона, говорит, что олово доставляют из Британии на противоположный берег Галлии, а затем через внутренние земли в Массилию (современный Марсель), греческую колонию, которая, возможно, стояла на месте прежнего финикийского поселения. Единственная финикийская надпись, найденная до сих пор в Британии, вероятно, сделана легионером-ремесленником, очевидно карфагенянином, и датируется первым веком римской оккупации. Питри нашел в древней Газе крученые золотые серьги ирландского, по его мнению, происхождения, которые он датирует 1450 годом до н. э.
В Испании финикийские колонии находились в основном в районе Таршиша (Тарсесс), особенно на участке от Картахены до Гадеса. Эти семитские топонимы довольно типичны и встречаются на дошедших до нас монетах. «Таршиш», который фигурирует в библейской (Фарсис) и ассирийской литературе, – это, вероятно, финикийский термин, означающий шахту или плавильню. Киликийский Тарс, где родился Павел, носил такое же имя и также был финикийской колонией.
Здешний культ Баала практически идентичен тому, что существовал в Тире и Карфагене. Картахена получила название в честь своей «матери» – североафриканского Карфагена. «Малага» означает «мастерская». Страбон[67] упоминает засол рыбы в этом городе, что, возможно, указывает на то, чем там занимались. Гадес также был известен производством соли. Кордоба (Кордова), первоначально иберийский город, была захвачена финикийцами. На ее древнейших монетах – финикийские буквы, позднее смененные пуническими. Из нее, в числе других испанских городов, отец Ганнибала Гамилькар Барка брал войска для своей кампании против Рима. Название Барселоны, стоящей дальше на север, могло быть связано с финикийским baraq, «молния», прозвище отца Ганнибала. Благодаря этим колониям сирийская цивилизация обрела вторую родину в Западном Средиземноморье.
Нынешняя столица Минорки Маон впервые появляется под именем Маго – так звали карфагенского полководца. На Балеарских островах финикийцы установили свои фактории, однако им не удалось прочно укрепиться на островах, где обитали потомки иберов. Кроме того, у них были торговые стоянки на Корсике и Сардинии. Палермо в Сицилии стоит на месте древнего финикийского поселения.
В Греции семитские топонимы и имена божеств вкупе с разнообразными легендами и мифами свидетельствуют об активной деятельности там финикийцев. Коринф, вероятно основанный финикийцами, легенда связывает с богом финикийского происхождения Меликертом (Мелькартом). Среди греческих островов Самос и Крит пользовались особым вниманием финикийских колонизаторов.
Именно на Крит, где находился центр цивилизации до того, как эта роль перешла к европейскому материку, принес обратившийся в быка Зевс, похитивший с луга на сирийском берегу Европу, прекрасную дочь финикийского царя Агенора[68], полюбив ее. На этом острове он принял свой обычный вид и женился на ней. От этого союза родился Минос, легендарный критский правитель и законодатель, и европейский континент до сих пор носит имя его матери.
Для Диодора жители Мальты, чье название имеет несомненное семитское происхождение, были финикийцами. Остров обладал одной из прекраснейших гаваней Средиземноморья; неудивительно, что ее назвали «местом убежища». Фракия, регион на севере Греции, владела золотыми рудниками, которые, по легенде, впервые разработал Кадм из Тира[69], брат Европы, когда отец отправил его на поиски сестры. Финикийские рудокопы исследовали этот район в поисках золота еще за 17 веков до рождения Христа. Кадм, помимо прочего, считается строителем Фив – тамошний акрополь Кадмея назван в честь него – и отцом Иллирия, чье имя получила Иллирия (примерно на территории современной Албании). Факт тот, что протоэолическая столица имела сирийское происхождение, и вся архитектура архаичной Греции, откуда и берут начало ее классические формы, обязана тому же источнику своей практикой использования колонн и капителей.
В гомеровские времена финикийцы перевозили на своих кораблях такие растения и сельскохозяйственные продукты, как роза, пальма, инжир, гранат, мирра, слива и миндаль, которые они распространили по всему Средиземноморью. На тех же кораблях, возможно, из Греции в Сирию попали лавр, олеандр, ирис, плющ, мята, нарцисс, греческие названия которых в отдельных случаях сохранились в семитских языках. Торговля пряностями полностью находилась в руках финикийцев, которые, дабы сохранить секрет своих торговых путей, рассказывали об опасностях, подстерегающих путешественника в странах пряностей и по дороге туда. Долгое время в классический период считалось, что Сирия сама производит бальзам и мирру. То, что мирра, которой еще до финикийцев торговали сабеи, поступает из Аравии, было установлено не ранее завоевательного похода Александра. Лавровым венком увенчивали поэтов, а однажды нимфа Дафна, преследуемая влюбленным в нее Аполлоном, была превращена в лавровое дерево в том месте возле Антиохии, которое по сию пору носит ее имя. Иерихонский бальзам привлек Клеопатру, и она арендовала тамошние сады.
Хотя Карфаген был одной из самых молодых африканских колоний, он оказался куда успешнее всех остальных. В VIII веке он уже на равных конкурировал с метрополией, в которой начался упадок. Развал ускорился из-за волны греческой колонизации в конце VIII – начале VII века до н. э. и одновременного завоевания финикийских городов ассирийцами. Размах торговли, которую вел Карфаген, и принятые им способы обмена можно проиллюстрировать рассказом у Геродота. По его словам, карфагенские моряки, пристав к западному побережью Африки, выгружают свои товары на берег, разводят сигнальный костер и возвращаются на корабли. Дикие туземцы, завидя дым, приходят, кладут золото за товары и уходят. Карфагеняне снова сходят на берег и, если количество оставленного золота кажется им справедливой платой, берут его и уезжают восвояси. Если же нет, то снова ждут на кораблях, пока местные жители не предложат новую цену в этой молчаливой торговле. «При этом они не обманывают друг друга».
Таково было коммерческое и политическое превосходство Карфагена, что в VI веке его могущественная империя раскинулась от границ Киренаики (современная Ливия) до Геркулесовых столпов и охватывала Балеарские острова, Мальту, Сардинию и некоторые участки побережья Испании и Галлии. Сидон и Тир, находясь в тени Египта и Ассирии, не имели шанса создать империю, а у Карфагена он был. Это привело к его конфликту с набирающим силу Римом, который спорил с ним за господство на море, где карфагенский флот обосновался настолько прочно, что римляне, по словам карфагенян, не позволят и руки омыть в его водах без разрешения Карфагена. Рассказывали, что образцом для римских корабелов, построивших 130 его копий за 60 дней, послужила сидевшая на мели карфагенская квинквирема.
В 218 году до н. э. Ганнибал, который еще в детстве поклялся в вечной ненависти к Риму, пустился в предприятие, которому посвятил всю жизнь: выступил на Италию из Испании через Альпы. После 15 лет успешной кампании на итальянской земле, в ходе которой нападению подвергся сам Рим, Ганнибала отозвали в Африку, где на следующий год (202 до н. э.) он был разгромлен в решающей битве при Заме юго-западнее Карфагена. В 196 году он бежал в Тир, а там присоединился к царю Сирии Антиоху в войне против вечных врагов Карфагена. Однако он понес сокрушительное поражение и безо всяких надежд на спасение покончил с собой в Малой Азии в 183 году до н. э., сказав перед смертью: «Так римлянам не придется ждать смерти ненавистного им старика».
Что касается Карфагена, зависть при виде его быстрого восстановления и нового преуспевания внушила узколобому Катону и другим влиятельным римлянам мысль, что «Карфаген должен быть уничтожен». Семнадцать долгих дней 146 года город предавали огню, пока само место, на котором он стоял, не покрылось грудами тлеющих углей. Затем его распахали и землю под ним прокляли на веки вечные. Даже судя по меркам того времени, этот поступок не делает чести римлянам.


