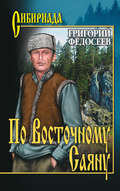Григорий Федосеев
Злой дух Ямбуя (сборник)
Мы здорово устали. Легкие котомки кажутся теперь тяжестью. Шаги сузились. А ветерок то вдруг набросит лай, подбросит нас, то пронесет его мимо. И наконец, лай стих, ушел от слуха и больше не возобновлялся..
– Тьфу, сатана, опять убежал! – сказал Илько, безнадежно махнув рукой в сторону стихшего лая.
Я взглянул на часы – скоро рассвет. Мы молча свернули со следа, взобрались на увал, где чернела густая таежка хвойного сыролесья, чтобы там заночевать. Мы выбились из сил и уже не надеялись догнать зверя.
Вдруг Илько схватил меня за руку, показал вниз. Там, на снежной белизне, виднелось подозрительное черное пятно. Присмотрелся – это спит зверь.
Стоим не шевелясь, как пни. Но чуткий слух зверя, видимо, уловил наше присутствие. Он поднял голову, поставил торчмя свои длинные уши, осмотрелся, долго прислушивался и, успокоившись, опять заснул.
Вокруг посветлело. Несколько поодаль от зверя я заметил на снегу серое пятно. Загря!.. «Неужели убит?» – подумал я, и эта мысль пронзила меня острой болью.
Перевожу взгляд на Илько. Старик улыбается, шепчет мне на ухо:
– Оба спят, стрелять не надо.
И я вижу, как подобрело его лицо.
Загря лежит, свернувшись в клубочек и уткнув нос в пушистый хвост. Спит и замученный сохатый, разбросав длинные ноги и положив на снег настороженную голову. Даже рассвет не в состоянии разбудить их.
Никто из нас и не подумал стрелять. Рука с карабином невольно опустилась. Илько подает пальцем знак – отходить – и начинает осторожно, будто под ним пропасть, поворачивать лыжи на свой след. Я делаю то же самое.
Мы неслышно отступаем. У меня не осталось ни горечи, ни сожаления, что так неудачно закончилась охота. Я даже доволен тем, что чувство, присущее натуралистам, перебило в нас обоих страсть зверобоев.
Может быть, больше всего я и люблю Загрю за то, что бывает он безмерно храбрым перед сильным противником и до наивности снисходительным к слабому.
Нурки уже не было с нами в этом походе к Ямбую. Из Ленинграда после трехлетней учебы вернулся Тиманчик. Он направлялся в свой далекий поселок Омахта, чтобы взять семью и переехать в районный центр, куда после учебы послан на работу. В Нагорном молодой эвенк зашел в штаб экспедиции. Мы встретились во дворе. Я не сразу угадал в нем хозяина Нурки. Одет он был по-городскому, при галстуке. Непривычный для эвенка зачес скрадывал скуластость лица. На ногах – остроносые ботинки. Только походка осталась стремительной и легкой по-прежнему.
– Нурка жива? – спросил он, волнуясь.
Видно, все годы разлуки с любимой собакой мучил его этот вопрос.
А я, здороваясь с ним, с болью почувствовал, что не смогу расстаться с Нуркой. Мысленно стал подыскивать доводы, чтобы оставить ее у себя. Я готов был заплатить любую сумму. Но мне вспомнилось, как Тиманчик втащил собаку в мою комнату, привязал ее к ножке кровати и, слизывая с губ скатывающиеся слезы, говорил: «Пока я жив, ее своей не считай». И мне стало неловко за свои намерения. Я ответил, что Нурка жива и здорова.
– Так позови же ее скорее. Может, она меня забыла… – Он был полон нетерпения.
– Тихон Петрович, – окликнул я деда, рубившего дрова за сараем, – приведи сюда Нурку.
Тот посмотрел в нашу сторону и, не торопясь, подошел ближе. Подозрительно посмотрел на Тиманчика.
– А зачем она понадобилась? – спросил он резко, заподозрив что-то неладное.
– Я ее хозяин, – ответил Тиманчик.
– Ишь ты, нашелся! За давностью она уже не твоя.
– Такого договора не было!
Я увидел, как эвенк вспыхнул, угрожающе глянул на старика, готовый защищать свое право на собаку.
– Тихон Петрович, приведи Нурку, – повторил я.
– Ну разве только показать, – упорствовал дед, направляясь к сараю.
С минуту мы стояли молча. Я видел, как Тиманчик нервно покусывал губу, как на его скулах вздувались желваки, и невольно подумал: а что, если Нурка действительно не узнает его?
Но тут показался Тихон с собакой. Тиманчик сорвался с места, быстро-быстро пошел ей навстречу. Вот они рядом… Собака тщательно обнюхала его, равнодушно потопталась на месте и, увидев меня, натянула поводок. Раздосадованный Тиманчик схватил ее за шерстистые щеки, поднял морду, заглянул в глаза, сказал что-то на эвенкийском языке, стал повторять громче и громче, затем с силой отбросил собаку от себя, повернулся и поспешно ушел, не попрощавшись и не оглянувшись, как и в тот раз, когда он впервые привел ко мне Нурку.
Но Тихон показал ему не Нурку, а ее дочь, как две капли воды похожую на мать.
– Зачем ты это сделал? – крикнул я.
– Она как мать, не различишь, пусть ее и берет, а Нурку не отдам! – упрямо ответил он, пряча от меня взгляд.
Я бросился в сарай, отвязал Нурку-мать. Она по привычке метнулась по двору, но, наткнувшись на след Тиманчика, вдруг оцепенела. Раздутыми ноздрями втянула воздух, ткнулась носом в след и, уже ничего не различая перед собой, рванулась к выходу, перемахнула через калитку…
Мы с дедом выскочили на улицу. Тиманчик лежал на пыльной земле, сбитый собакой. А она, ласкаясь, прижималась к нему, лизала его лицо, нежно поскуливая. Тиманчик с минуту не шевелился и не сопротивлялся. Потом поднял ее морду, заглянул в широко открытые глаза, обнял, и так они лежали некоторое время на сухой земле, оба бесконечно счастливые.
На второй день, рано утром, Тиманчик уходил с Нуркой в далекий путь. Мы собрались проводить его. Ничто уже не могло разлучить эвенка с собакой. Смирился и дед Тихон. Подпирая плечом забор, он нервно жевал кончик бороды и, не отрывая глаз, следил за удаляющимися силуэтами.
– Ладно, хай поживэ еще с ним, – сказал он, вытирая влажные глаза.
Глава седьмая. Дух амакана на стойбище
Отбрасываю край полога и, высунувшись, жадно глотаю воздух. Утренняя прохлада освежает лицо. Выбираюсь наружу. Уже день. Яркий солнечный свет слепит глаза. Детвора на ногах. Пастухи готовятся в путь.
На костре в большом котле варится завтрак – целая медвежья голова и две лапы, принесенные вчера Карарбахом: Павел и Долбачи упаковывают свои постели, складывают вещи.
– Что нового, Павел? – спрашиваю я. – Была ли связь со штабом?
– Из штаба хорошие вести. Завтра Елизар Быков выходит от Короткова к Ямбую. Давненько мы с ним не виделись. По случаю такой встречи не грешно и… – Он выразительно щелкнул пальцем по горлу.
– А есть что?
Павел не ответил, но по хитрющей ухмылке я догадался, что не иначе как у него припрятан спирт.
Разговаривая с Павлом, я заметил, что в стороне, прямо на земле, подобрав под себя ноги, прикрытые широкой ситцевой юбкой, сидит Инга, кормит дочь. На ее молодом лице горит румянец, она довольна, спокойна и полна материнского блаженства.
Чудесным утром встречает природа новорожденную! Сколько блеска, сколько очарования в листопадных кострах, в пурпуре осенних холмов, в звенящей струе ручейка! А эти лиловые утренние тени, прозрачная дымчатая вуаль, сквозь которую все вокруг кажется торжественным и необыкновенным.
Вокруг Инги собрались все дети стойбища. Они не могут скрыть удивления. Присев на корточки, с любопытством следят за новорожденной, пока она, прильнув к груди матери, захлебывается молоком и чихает. Все ребятишки приходят в восторг.
С болью в сердце вспомнилось об Аннушке. Спешу ее проведать.
На постели больной сидит Сулакикан и, поддерживая левой рукой голову дочурки, поит ее оленьим молоком. Она не замечает меня. Аннушка дышит тяжело, влажные губы ее шевелятся, и только глаза на морщинистом, иссушенном болезнью личике засветились живым огоньком. Это радует, но далеко еще не обнадеживает.
У ее ног сидит Битык. Мальчишка смотрит немигающими глазами на сестренку, что-то ей шепчет, показывает на пальцах какую-то фигурку.
Увидев меня, он вскакивает и, пятясь, исчезает из чума.
Устраиваюсь на его место, беру безвольную ручонку больной, прощупываю пульс. Аннушка ловит мой взгляд черными глазами. И я вижу в них жизнь. Ей-богу, жизнь! Кажется, что еще никогда у меня не было большей радости, чем та, которую подарил мне этот осмысленный, живой взгляд детских глаз! Неужели спасена?!
Очередной укол Аннушке делала теперь Сулакикан под моим наблюдением. Женские руки оказались более ловкими, нежели мои. Я передал ей весь запас пенициллина, шприц и все медикаменты.
У входа меня ожидал Битык. В руках он держал лук, тот самый, который предлагал в обмен на карабин. Он решительно протянул его мне.
Нас окружила детвора. Я растерялся, не совсем понимая, что хочет мальчишка.
Подошла Лангара. Между нею и Битыком произошло короткое объяснение. Затем она сказала мне:
– Битык отдает тебе лук.
– Спасибо. Но я, к сожалению, не могу отдать ему взамен карабин. Я вчера объяснил Битыку. Может, он хочет что-то другое получить? Пусть скажет.
– Не менять он хочет, – перебила Лангара. – Даром тебе дает, за Аннушку. Понимаешь?
– Скажи ему, за это не благодарят. Люди должны всегда в беде помогать друг другу, не требуя ничего взамен. Ведь и по вашим законам так же?!
Лангара переводит мои слова всем сбежавшимся ребятишкам. Битык согласно кивает головою. Но как только Лангара умолкает, он подходит ко мне и с еще большей настойчивостью сует мне в руки лук. Я теперь не отказываюсь. Растроганный, притягиваю мальчишку к себе, снимаю с руки свои походные часы, надеваю ему на руку. Он сначала вырывается, но потом останавливается, с восторгом смотрит на подарок. И наконец, окруженный детворой, бежит к развесистой ели. Там, сбившись в кучу, ребята долго «колдуют» над часами.
На стоянке с раннего утра командует Лангара. Она появляется всюду. Ее властный голос слышится то у костра, то в чуме или доносится от ручья. Удивляешься, откуда только у этой старухи столько энергии!
Наступает время завтрака. Лангара почему-то усаживает женщин и детей отдельно. Их еда – вяленое мясо, масло, горячие лепешки и чай.
А для мужчин, расположившихся у костра, она вытаскивает из котла медвежью голову, лапы и кладет на широкий лист бересты, рядом ставит котел с отваром. Это даже не отвар, а почти чистый медвежий жир. На всех – одна ложка.
Я не выдерживаю, подхожу к Лангаре.
– Скажи, почему женщины и дети сегодня едят отдельно?
– Потому что сейчас мы будем отпугивать дух убитого амакана. Это делают мужчины, хотя можно и женщинам, которые сами ходили на амакана.
– Не понимаю, о каком духе и о каком медведе ты говоришь?
– Которого убил Карарбах… Разве не знаешь, что наши обычаи требуют уважать дух амакана, он не должен догадаться, кто убил его. Иначе все время будет сбивать нас с тропы, посылать не туда, куда нужно, и людей и стадо. А ночами будет пугать оленей, покоя никому не даст…
– Ты тоже веришь этому? – спрашиваю я.
– Я не верю, – шепотом отвечает Лангара. – Они тоже не верят. – Она кивает головой в сторону женщин и детей. – Но так хочет Карарбах. Он старый люди, постоянно живет в тайге, понимает только ее, другого ничего не видел и не знает. Мы не должны ругать его или отговаривать. Пусть уносит в могилу обычай стариков. И тебе говорю, когда кушать станешь, делай все, как будем делать мы, иначе обидишь Карарбаха. Меня тронула Лангара уважительным отношением к глухому старику, и я становлюсь покорным участником древнего обряда отпугивания духа медведя от жилья кочевников.
Садимся тесно, плечом к плечу, вокруг медвежьей головы. Я стараюсь запомнить до мельчайших подробностей все, что тут совершается, – ведь этот суеверный обряд, как и многие другие, уходит в небытие даже здесь, в глуши лесов. Но их надо знать, чтобы лучше проникнуть в жизнь этого народа.
Лесные кочевники не могли понять многих явлений природы, не в силах были изменить их и естественно приписывали могуществу духов, способных угонять зиму, покрывать землю зеленью и размножать зверей, птиц, распределять между людьми добро и зло, распоряжаться жизнью и смертью. Суеверие вообще сопутствовало человеку с его колыбели, и мы не должны теперь осмеивать его. Это прошлое народов, с тою лишь разницей, что одни люди ушли от него раньше, другие – позже.
У Карарбаха с потерей слуха, а это случилось давно, оборвалась нормальная связь с внешним миром. Многое ему не стало доступным, и он на всю жизнь остался на той ступени развития, в какой его застала глухота, убежденным, что все земные дела от духов, старался не гневить их.
Трапезу начинает Лангара. Она зачерпывает из котла полную ложку жира, подносит ко рту. Остальные хранят гробовое молчание.
– Ку! – кричит старуха, обернувшись в сторону леса, и глотает жир.
«Ку-у-у!..» – разносит эхо по тайге.
Затем Лангара долго говорит по-русски – видимо, в знак уважения к нам.
– Амакан, – почти ласково обращается она к невидимому собеседнику, – ты думаешь, мы тебя убивали? Не-ет, что ты, и не собирались! Как можно! Мяса у нас полные потки, сам посмотри. Тебя убивали другие люди. Мы его не знаем, чужой. У тебя своя тропа, он хромой, догоняй его. Ну-ну, скоро догоняй, он так ушел. – Старуха машет рукою в сторону вчерашнего своего следа. Затем передает ложку сидящему слева сыну Майгу, достает нож, ловко отсекает щеку от медвежьей головы, долго жует.
Майгу тоже черпает ложкой жир, выпрямляется весь, чтобы Карарбах видел, кричит:
– Ку!
Он выпивает жир и начинает что-то быстро говорить по-эвенкийски, энергично жестикулируя. Видимо, он тоже уговаривает медведя уйти от табора, поторапливает его.
Майгу передает ложку Долбачи, а сам берет из рук Лангары медвежью голову, выбираем кусок полакомее.
Все напряженно ждут, когда дойдет очередь до меня.
Наконец ложка в моих руках. Я пытаюсь во всем подражать пастухам. Зачерпываю из котла и кричу:
– Ку! Ку!..
Силюсь проглотить теплый, совершенно не соленый жир. Уж я приноравливаюсь и так и эдак. С большим трудом мне удается сделать один глоток. Для приличия, как и все, аппетитно облизываюсь. А сам чувствую, что вот-вот жир пойдет обратно. Сижу не шевелясь. Потом с досадой говорю, обращаясь к медвежьему духу:
– Какого дьявола ты тут топчешься, косолапый! Убирайся отсюда, или догоняй хромого, кто убил тебя.
– Ты как настоящий эвенк, правильно говоришь, – поддерживает меня Лангара, берет у меня ложку и передает старику.
А Долбачи уже сует мне медвежью голову и лапу. Я достаю нож, отрезаю кусок мяса, начинаю жевать.
Карарбах распрямляет сгорбленную спину. Лицо его сосредоточено. Старик, как и все, черпает жир из котла. Подносит его дрожащей рукой ко рту, проглатывает.
– Ку! – хрипло вырывается из его горла. Затем старик что-то бормочет и машет рукою в сторону леса.
Пожалуй, Карарбах один только и относится к этому древнему обряду со всей серьезностью.
– Тебе сказать, что говорил он? – спрашивает Лангара.
– Ну конечно.
– Карарбах говорит: «Это не люди едят тебя, амакан, ты не думай так, обманешься. Тебя клюют коршуны, вороны. Твою голову и лапы срезал хромой. Пока он близко, догоняй его, потом далеко уйдет, без лап не догонишь. Иди, иди, не оглядывайся…»
Жизнь человека в тайге всегда была полна всяких опасностей. С тех древнейших времен, когда появились люди в лесах, они вели постоянную и упорную борьбу с медведем. Очень часто их преследовали неудачи. И пожалуй, даже сейчас самый опасный враг охотника – это медведь. А чем раньше мог эвенк одолеть дикую силу зверя? Лиственничными самострелами, петлями, ловушками или рогатиной. И охотник нередко погибал в этой неравной схватке. Извечный страх перед зверем, особенно у стариков, и породил этот необычный обряд поклонения духу медведя.
Отпугивание духа амакана закончено. Закончен и наш своеобразный, не очень-то сытный завтрак. Пастухи долго пьют чай, и стойбище приходит в движение. Пока ловят оленей, старик бережно собирает все кости, даже самые мелкие, остатки от трапезы. Складывает их в старенький чуман, перевязывает ремешком, относит подальше от огнища и там ставит в развилку толстой березы.
– Ты что так смотришь? Разве не знаешь, что по обычаю предков нельзя бросать кости амакана на земле, – поясняет Лангара. – Амакан подумает, мы их взяли с собой, не отстанет от каравана, неудачу пошлет, а так сразу увидит их на дереве.
Карарбах срубает небольшой толщины лиственницу, на высоте полутора метров от земли, протесывает оставшийся ствол с четырех сторон, кладет на него медвежий череп глазницами на восток и, привязав, украшает его стланиковыми ветками – дух медведя не должен далеко уходить от своей головы, а это важно, когда стадо находится в пути.
Олени завьючены, все готовы трогаться в путь. И только Инга с ребенком на руках растерянно стоит у догорающего костра. У нее нет еще опыта, как подготовить новорожденного в путь, ждет, когда кто-то из женщин ей поможет.
Я подхожу к Инге, приоткрываю край одеяльца: девочка не спит. Смотрит сквозь узенькие щелочки глаз. Личико смуглое, кругленькое.
– Что смотришь, лючи? Нравится?! – спрашивает мать воркующим, немного хриплым голосом.
– Был бы у меня сын, взял бы ее в снохи.
– А может, она не захочет? – улыбаясь, отвечает в тон мне счастливая Инга.
– Это может быть. А как же вы ее назвали?
– Дора.
– Что это значит по-русски?
– Родилась, когда был далекий гость.
– Хорошее имя. Теперь я буду считать себя ее крестным отцом. Согласна?
– Ладно! – И Инга радостно закивала головой, вряд ли понимая смысл моего предложения.
Карарбах принес из перелеска трухлявый, совершенно сухой пень и охапку свежих, душистых еловых веток. Пень он бросил на землю и что-то крикнул Лангаре, а сам присел к маленькой походной люльке, сделанной из тонких лубков, вынянчившей не одного ребенка. Он разорвал хвойный лапник на мелкие веточки и любовно выстлал ими дно люльки.
«Не жестким ли будет первый путь новорожденной?» – подумал я, следя за работой старика.
Лангара опустилась на землю рядом с люлькой и привычным ударом о коленку раздробила трухлявый пень, принесенный Карарбахом, на мелкие части, растерла в пыль податливые куски, просеяла сквозь пальцы на подол юбки. Затем взяла у Инги новорожденную, притихшую, как будто в ожидании, развернула ее и с нежностью склонилась над смуглым живым комочком. Она тихонько шлепнула девочку огрубевшей ладонью и засмеялась, когда та энергично дрыгнула ножкой, ударив старуху по лицу. Лангара в восторге погрозила ей пальцем и поцеловала крошечные розовые пятки Доры, еще не знающие тропы.
Разостлав на земле мягкую, хорошо выделанную шкуру кабарги шерстью вверх, она надела на девочку с помощью Инги голубую фланелевую распашонку, чепчик, присыпала древесной трухой потные места у ребенка, уложила его на шкуру. И тут девочка заорала, как бы протестуя, что ее заворачивали в шкуру. Инга встревожилась. Но Лангара, не обращая внимания на крик, быстро завернула внучку в одну, затем в другую шкуру, перевязала ремнем и положила в люльку.
Дальше Инга сама заканчивает все, чтобы ребенок хорошо перенес этот путь, сразу же привык к тайге, к трудностям кочевой жизни. Она отворачивает от лица новорожденной край шкуры – пусть дышит свежим смолистым воздухом, впитывает запахи леса, болот и слышит пощелкивание копыт оленей. Подкладывает под голову маленькую подушку, а под бока – еловый лапник, чтобы не так качало на ходу. Долго смотрит на раскричавшуюся дочь, может быть, благословляя в первый путь по тайге.
Мне стало не по себе от мысли, что мы навсегда расстаемся с чудесными людьми. Мы сроднились с ними за полутора суток совместного пути. У нас с ними во многом различные понятия и представления о жизни. Большая разница в культуре. Иногда бывало трудно объясниться друг с другом, и все же нас объединяли простые человеческие чувства – чувства взаимного понимания, подлинного товарищества. Они были мне близки еще и потому, что я вырос среди простых людей и с детства знал человеческое горе.
Все собрались у затухающего костра. Стадо скучилось в ожидании пути. Лангара, прищурив глаза, крепко берет меня за руку, говорит, не скрывая тревоги:
– Ты лучше бы мимо ходил, чем теперь нам думать, живые вы останетесь на Ямбуе или тоже без следа пропадете! Послушай старую Лангару: не ходит туда, зачем тебе мертвые, пойдем с нами – не пожалеешь. У мяса два дня хорошо стоять будем, надо коптить его, жир собирать, шкуры мало-мало делать, кишки, требуху чистить. От убитого зверя ничего нельзя бросать, что годится в пищу. И кровь сушить будем. Ты ел сухари из крови? Нет? Попробуешь. Их сладость язык долго не забывает… Ну как, пойдешь с нами?
– Спасибо, Лангара, но мы пойдем на Ямбуй, другой дороги у нас нет. Шли бы и вы туда, ведь вам пути не заказаны. Карарбах помог бы нам разыскать пропавших товарищей. Загрю отдам, за него не раз спасибо скажете.
– Загря хорошо, для пастухов такая собака шибко дорога, но ты не понимаешь, что говоришь. Зачем тебе Ямбуй, зачем гневить духов, и без того людям не хватает добра, горе как клещ к ним присосалось.
– Значит, отказываешься от Загри?
– Да.
– Тогда прощай, Лангара! Мы будем долго помнить нашу встречу. Пусть ваша тропа не знает больше бед и когда-нибудь встретится с нашей.
Мы обнимаемся. Соленые губы от слез были горячее материнских.
Подхожу к Карарбаху. Он, пытаясь улыбнуться, кривит высохшие губы. Тут только я заметил, какой он худой и рослый и как одинок он в своей вечной тишине. На лице старика озабоченность. Его, как и всех, беспокоит наша судьба.
Карарбах поворачивается к Лангаре, что-то ей долго объясняет. Старуха внимательно слушает, потом переводит:
– Старик говорит: у эвенков нет закона, чтобы гостя отпускать одного, когда впереди опасность. Надо бы проводить вас. Будь другое место, не этот голец, он пошел бы с вами. А на Ямбуй не пойдет. Зачем гневить духов, они злопамятные, ничего людям не прощают. Не сейчас, так после, а все равно худо сделают. Еще больше разгневаются злые духи и принесут людям горе.
– Спроси у него, Лангара, действительно ли он считает духов виновниками несчастий людей? И на Ямбуе пропали люди по их вине?
Лангара недовольна таким вопросом, но передает его старику. На лице Карарбаха недоумение. Он захватывает в руку реденькую бородку, задумывается, пристально смотрит мне в глаза, как бы пытаясь угадать, не хочу ли я посмеяться над ним, над его верованием. Потом говорит убежденно, обращаясь прямо ко мне. И тут я замечаю, что он произносит только гласные буквы и совсем забыл труднопроизносимые, вроде шипящих.
Старуха переводит.
– Тайга полна злых духов. Это они приносят людям беду. Но там, где человек знает, что к чему: как спастись от стужи, распутать след зверя, как добыть огонь, избавиться от болезни и другое, – зла от духов не бывает. Карарбах толмачит, что им многое известно, чего мы не знаем, почему приходит и уходит зима, почему люди родятся и умирают, как держатся звезды на небе, куда уходит душа покойного – это знают только духи. Никто не в силах бороться с ними, никто! Они сильнее всех нас…
– Человек все-таки сильнее! Скажи ему… – перебиваю я Лангару.
У Карарбаха сердито сдвинулись брови. Он ответил резко, не отрывая взгляда от меня.
– Старик тебе совет говорит: не шибко гордись, даже если станешь сильнее Харги, но этого не будет, – продолжала Лангара. – Сколько бы ты ни бил языком о кремень, огня не добудешь… Старик тоже будет мучиться, думать, как вы там на Ямбуе, и хочет, чтобы наши тропы еще раз сошлись.
Я беру в ладонь тяжелую, исполосованную шрамами руку старика с неразгибающимися пальцами. Крепко сжимаю. Другой рукою ловлю костлявую руку Лангары, и мы долго стоим молча.
– Послушай, Лангара, бросьте кочевать по этим безлюдным, неустроенным пустырям, по болотам и вечно мерзлой земле. Идите со стариком на стойбище. Вы много сделали для своего потомства, не каждому такое под силу. Пора и отдохнуть, вы этого заслужили. Пусть молодежь управляется со стадом. Когда сыновья останутся без вашей опеки, станут такими же оленеводами, как и вы.
– Оборони бог! – воскликнула старуха, вырывая свою руку и отмахиваясь от меня, как от назойливого паука. – Если я отрублю себе руку, это не будет так больно, как бросить аргиш, уйти от стада. Что ты, что ты!.. Когда я один день олень не вижу – голова пустая, как бубен.
Она дико глянула на меня, будто я собираюсь лишить ее права кочевать по тайге.
– Ты хорошо подумай, Лангара, сейчас вы оба здоровы, а если старость сломит вас?
– Тут в тайге и помирать будем. Соль горькая, однако, люди не могут жить без нее… Прощай, лючи! Нам пора.
Она крепко жмет мне руку и торопливо уходит к оленям.
Прощаюсь с Карарбахом. Он улыбается.
Мое внимание опять привлекают его ужасные, старые-престарые, загрубевшие от времени лосевые штаны. На них – латка на латке. Достаю из потки свои запасные брюки, протягиваю старику. Они поношенные, но лучше лосевых.
И тут происходит неожиданное. Подходит Лангара, отбирает у Карарбаха брюки и с необыкновенной ловкостью натягивает на себя поверх широких шаровар.
– Хорошо, спасибо тебе, – невозмутимо говорит она, оглядывая себя со всех сторон.
– Но ведь это Карарбаху, Лангара…
– Мне они не плохо, – отвечает она.
Старик равнодушно смотрит на происходящее. А впрочем, это не удивительно. Все блага на земле, по представлениям эвенков, должны распределяться в зависимости от того, насколько человек в них нуждается. Вот и Лангара считает, что ей брюки нужнее нежели Карарбаху.
Меня окружают дружной толпой дети. У всех в руках колесики, винтики, пружинки от часов. Как им удалось разобрать весь механизм часов, одному Харги известно! Они все «ценности» разделили поровну. А футляр Битык повесил себе на грудь, как награду. Вид у всех довольный.
На прощанье даю каждому по куску рафинада. Сахар не всегда бывает у пастухов. Ребята тут же засовывают сахар в рот, слышно, как он хрустко лопается у них на зубах. А что же оставить на память новорожденной? Подходящего ничего нет. Вспоминаю, что у меня в потке лежит книга Константина Паустовского «Лесная поэма». Ну что ж, оставлю ее.
Пишу химическим карандашам на титульном листе: «Доре – маленькой пастушке из рода Карарбаха. Я был тем далеким гостем, в честь которого тебе дали имя. Не покидай свой край, сделай его цветущим и богатым, как того хочет твоя бабушка Лангара».
Передаю книгу Инге и прошу ее беречь, пока Дора вырастет.
Подхожу к Аннушке, раскрываю люльку, привьюченную к оленю. Нет, больной не легче и после пенициллина. Губы у девочки посинели. Дыхание еле заметно. Беру ее ручонку, пальцы холодные и тоже синие. Не выживет…
– Сулакикан, через два часа обязательно сделаешь укол и затем не забудь, надо повторять их через каждые четыре часа…
Мать ничего не ответила, но так глянула, что я долго не мог прийти в себя. Она окончательно смирилась с мыслью о смерти Аннушки и, конечно, теперь уже не верила ни в какие лекарства. Откровенно говоря, я до последней минуты ожидал другого исхода.
Бесшумными шагами ко мне подходит Лангара.
– Видишь! А ты сказал, что человек сильнее Харги. – И, прикрыв одеяльцем люльку с умирающей Аннушкой, подает знак Карарбаху трогать аргиш.
Что ей ответить, куда отвести глаза, чтобы не встречаться с обвиняющим взглядом старухи? Стою опустошенный. Жаль Аннушку…
Караван вытягивается в длинную шеренгу. Как только олень с привьюченной люлькой на спине сделал два-три шага, неумолкавший крик новорожденной прекратился, будто ребенок с нетерпением ждал этой первой минуты начала пути в жизни.
Вот он, тот самый врожденный инстинкт кочевника, что пробуждается в нем вместе с первым глотком воздуха, с первой каплей материнского молока!
С появлением на свет новорожденную окружал свежий смолистый запах хвои, дым костра, шум леса, крик тугуток, лай собак, журчание ручейка. Все это пришло к ней первым ощущением, с началом жизни и, может быть, до смерти будет сопутствовать ей.
Карарбах выводит оленей из перелеска и, взяв направление на юг, вкось пересекает марь. У него на сворке собачонка. За плечами поняжка. К ней привязан топор, чайник и серая сумка с продуктами. Старик, видимо, никогда не расстается с этим грузом. Я смотрю на удаляющегося Карарбаха и мучительно думаю: где я видел эту чуточку сгорбленную фигуру и эти уверенные шаги?..