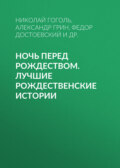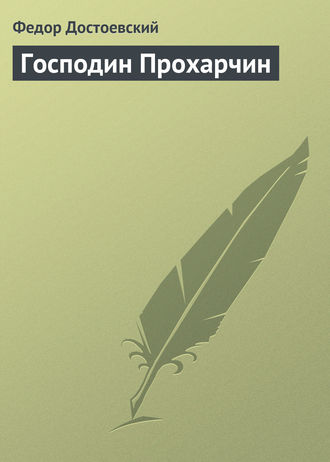
Федор Достоевский
Господин Прохарчин
– Да вы это все еще бредите, что ли, Семен Иванович?
– А, слышь, – отвечал Семен Иванович, – бредит дурак, пьянчужка бредит, пес бредит, а мудрый благоразумному служит. Ты, слышь, дела ты не знаешь, потаскливый ты человек, ученый ты, книга ты писаная! А вот возьмешь, сгоришь, так не заметишь, как голова отгорит, вот, слышал историю?!
– Да… то есть как же… то есть как же вы это говорите, Семен Иванович, что голова отгорит?..
Марк Иванович и не докончил, ибо все увидели ясно, что Семен Иванович еще не отрезвился и бредит; но хозяйка не вытерпела и тут же заметила, что дом в Кривом переулке ономнясь от лысой девки сгорел; что лысая девка там такая была; она свечку зажгла и чулан запалила, а у ней не случится, и что в углах будет цело.
– Да ведь, Семен Иванович! – закричал вне себя Зиновий Прокофьевич, перебивая хозяйку. – Семен Иванович, такой вы, сякой, прошедший вы, простой человек, шутки тут, что ли, с вами шутят теперь про вашу золовку или экзамены с танцами? так оно, что ли? Этак вы думаете?
– Ну, слышь ты теперь, – отвечал наш герой, приподымаясь с постели, собрав последние силы, и вконец озлясь на сочувствователей, – шут кто? Ты шут, пес шут, шутовской человек, а шутки делать по твоему, сударь, приказу не буду; слышь, мальчишка, не твой, сударь, слуга!
Тут Семен Иванович хотел еще что-то сказать, но в бессилии упал на постель. Сочувствователи остались в недоумении, все разинули рты, ибо смекнули теперь, во что Семен Иванович ногой ступил, и не знали, с чего начать; вдруг дверь в кухне скрипнула, отворилась, и пьянчужка приятель, – иначе господин Зимовейкин, – робко просунул голову, осторожно обнюхивая, по своему обычаю, местность. Его точно ждали; все разом замахали ему, чтоб шел поскорее, и Зимовейкин, чрезвычайно обрадовавшись, не снимая шинели, поспешно и в полной готовности протолкался к постели Семена Ивановича.
Видно было, что Зимовейкин провел всю ночь в бдении и в каких-то важных трудах. Правая сторона его лица была чем-то заклеена; опухшие веки были влажны от гноившихся глаз; фрак и все платье было изорвано, причем вся левая сторона одеяния была как будто опрыскана чем-то крайне дурным, может быть, грязью из какой-нибудь лужи. Под мышкой у него была чья-то скрипка, которую он куда-то нес продавать. По-видимому, не ошиблись, призвав его на помощь, ибо тотчас, узнав, в чем вся сила, обратился он к накуролесившему Семену Ивановичу и с видом такого человека, который имеет превосходство и, сверх того, знает штуку, сказал: «Что ты, Сенька? вставай! что ты, Сенька, Прохарчин-мудрец, благоразумию послужи! Не то стащу, если куражиться будешь; не куражься!» Такая краткая, но сильная речь удивила присутствующих; еще более все удивились, когда заметили, что Семен Иванович, услышав все это и увидав перед собою такое лицо, до того оторопел и пришел в смущение и робость, что едва-едва и только сквозь зубы, шепотом, решился пробормотать необходимое возражение: «Ты, несчастный, ступай, – сказал он, – ты, несчастный, вор ты! слышь, понимаешь? туз ты, князь, тузовый ты человек!»
– Нет, брат, – протяжно отвечал Зимовейкин, сохраняя все присутствие духа, – нехорошо ты, брат-мудрец, Прохарчин, прохарчинский ты человек! – продолжал Зимовейкин, немного пародируя Семена Ивановича и с удовольствием озираясь кругом. – Ты не куражься! Смирись, Сеня, смирись, не то донесу, все, братец ты мой, расскажу, понимаешь?
Кажется, Семен Иванович все разобрал, ибо вздрогнул, когда выслушал заключение речи, и вдруг начал быстро и с совершенно потерянным видом озираться кругом. Довольный эффектом, господин Зимовейкин хотел продолжать, но Марк Иванович тотчас же предупредил его рвение и, выждав время, пока Семен Иванович притих, присмирел и почти совсем успокоился, начал долго и благоразумно внушать беспокойному, что «питать подобные мысли, как у него теперь в голове, во-первых, бесполезно, во-вторых, не только бесполезно, но даже и вредно; наконец, не столько вредно, сколько даже совсем безнравственно; и причина тому та, что Семен Иванович всех в соблазн вводит и дурной пример подает». От такой речи все ожидали благоразумного следствия. К тому же Семен Иванович был теперь совсем тих и возражал умеренно. Начался скромный спор. Адресовались к нему братски, осведомляясь, чего он так заробел? Семен Иванович ответил, но иносказательно. Ему возразили; Семен Иванович возразил. Возразили еще по разу с обеих сторон, а потом уж вмешались все, и старый и малый, ибо речь началась вдруг о таком дивном и странном предмете, что решительно не знали, как это все выразить. Спор, наконец, дошел до нетерпения, нетерпение до криков, крики даже до слез, и Марк Иванович отошел, наконец, с пеной бешенства у рта, объявив, что не знал до сих пор такого гвоздя-человека. Оплеваниев плюнул, Океанов перепугался, Зиновий Прокофьевич прослезился, а Устинья Федоровна завыла совсем, причитая, что «уходит жилец и рехнулся, что умрет он млад без паспорта, не скажется, а она сирота, и что ее затаскают». Одним словом, все, наконец, увидели ясно, что посев был хорош, что все, что ни вздумалось сеять, сторицею взошло, что почва была благодатная и что Семену Ивановичу удалось отработать в их компании свою голову на славу и на самый безвозвратный манер. Все замолчали, ибо если видели, что Семен Иванович от всего заробел, то на этот раз заробели и сами сочувствователи…
– Как! – закричал Марк Иванович. – Да чего ж вы боитесь-то? чего ж вы ряхнулись-то? Кто об вас думает, сударь вы мой? Имеете ли право бояться-то? Кто вы? что вы? Нуль, сударь, блин круглый, вот что! Что вы стучите-то? Бабу на улице придавило, так и вас переедет? пьяница какой-нибудь кармана не сберег, так и вам фалды отрежут? Дом сгорел, так и у вас голова отгорит, а? Так, что ли, сударь? Так ли, батюшка? так ли?
– Ты, ты, ты глуп! – бормотал Семен Иванович. – Нос отъедят, сам с хлебом съешь, не заметишь…
– Каблук, пусть каблук, – кричал Марк Иванович, не вслушавшись, – каблуковый я человек, пожалуй. Да ведь мне не экзамен держать, не жениться, не танцам учиться; подо мной, сударь, место не сломится. Что, батюшка? Так вам и места широкого нет? Пол там под вами провалится, что ли?
– А что? тебя, что ли, спросят? Закроют, и нет.
– Нет. Что закроют?!. Что там еще у вас, а?
– А вот пьянчужку ссадили…
– Ссадили; да ведь то же пьянчужка, а вы да я человек!
– Ну, человек. А она стоит, да и нет…
– Нет! Да кто она-то?
– Да она, канцелярия… кан-це-ля-рия!!!
– Да, блаженный вы человек! да ведь она нужна, канцелярия-то…
– Она нужна, слышь ты; и сегодня нужна, завтра нужна, а вот послезавтра как-нибудь там и не нужна. Вот, слышал историю…
– Да ведь вам жалованье ж дадут годовое! Фома, Фома вы такой, неверный вы человек! по старшинству в ином месте уважут…
– Жалованье? А я вот проел жалованье, воры придут, деньги возьмут; а у меня золовка, слышь ты? золовка! гвоздырь ты…
– Золовка! человек вы…
– Человек; а я человек, а ты, начитанный, глуп; слышь, гвоздырь, гвоздыревый ты человек, вот что! А я не по шуткам твоим говорю; а оно место такое есть, что возьмет да и уничтожается место. И Демид, слышь ты, Демид Васильевич говорит, что уничтожается место…
– Ах вы, Демид, Демид! греховодник, да ведь…
– Да, хлоп да и баста, и будешь без места; поди ты с ним, вот…
– Да вы, наконец, просто врете или ряхнулись совсем! Вы нам просто скажите; уж что? признайтесь, коль грех такой есть! стыдиться-то нечего! ряхнулся, батюшка, а?
– Ряхнулся! с ума сошел! – раздалось кругом, и все ломали руки с отчаяния, а Марка Ивановича уже обхватила в обе руки хозяйка, затем, чтоб он не растерзал как-нибудь Семена Ивановича. – Язычник ты, языческая ты душа, мудрец ты! – умолял Зимовейкин. – Сеня, необидчивый ты человек, миловидный, любезный! ты прост, ты добродетельный… слышал? Это от добродетели твоей происходит; а буйный и глупый-то я, побирушка-то я; а вот же добрый человек меня не оставил небось; честь, вишь, делают; вот им и хозяйке спасибо; видишь ты, вот и поклон земной правлю, вот оно, вот; долг, долг исправляю, хозяюшка! – Тут действительно Зимовейкин и даже с каким-то педантским достоинством исполнил кругом свой поклон до земли. После того Семен Иванович хотел было опять продолжать говорить, но в этот раз ему уже не дали; все вступились, стали его умолять, заверять, утешать и достигли того, что Семен Иванович даже устыдился совсем и, наконец, слабым голосом попросил объясниться.
– Да вот; оно хорошо, – сказал он, – миловидный я, смирный, слышь, и добродетелен, предан и верен; кровь, знаешь, каплю последнюю, слышь ты, мальчишка, туз… пусть оно стоит, место-то; да я ведь бедный; а вот как возьмут его, слышь ты, тузовый, – молчи теперь, понимай, – возьмут да и того… оно, брат, стоит, а потом и не стоит… понимаешь? а я, брат, и с сумочкой, слышь ты?
– Сенька! – завопил в исступлении Зимовейкин, покрывая в этот раз голосом весь поднявшийся шум. – Вольнодумец ты! Сейчас донесу! Что ты? кто ты? буян, что ли, бараний ты лоб? Буйному, глупому, слышь ты, без абшида[3] с места укажут; ты кто?!
– Да вот оно и того…
– Что того?! Да вот, поди ты с ним!..
– Что поди ты с ним?
– Да вот он вольный, я вольный; а как лежишь-лежишь, и того…
– Чего?
– Ан и вольнодумец…
– Воль-но-ду-мец! Сенька, ты вольнодумец!!
– Стой! – закричал господин Прохарчин, махнув рукою и прерывая начавшийся крик. – Я не того… Ты пойми, ты пойми только, баран ты: я смирный, сегодня смирный, завтра смирный, а потом и несмирный, сгрубил; пряжку тебе, и пошел вольнодумец!..
– Да что ж вы? – прогремел, наконец, Марк Иванович, вскочив со стула, на котором было сел отдохнуть, и, подбежав к кровати весь в волнении, в исступлении, весь дрожа от досады и бешенства. – Что ж вы? баран вы! ни кола, ни двора. Что вы, один, что ли, на свете? для вас свет, что ли, сделан? Наполеон вы, что ли, какой? что вы? кто вы? Наполеон вы, а? Наполеон или нет?! Говорите же, сударь, Наполеон или нет?..
Но господин Прохарчин уже и не отвечал на этот вопрос. Не то чтоб устыдился, что он Наполеон, или струсил взять на себя такую ответственность, – нет, он уж и не мог более ни спорить, ни дела говорить… Последовал болезненный кризис. Дробные слезы хлынули вдруг из его блистающих лихорадочным огнем серых глаз. Костлявыми, исхудалыми от болезни руками закрыл он свою горячую голову, приподнялся на кровати и, всхлипывая, стал говорить, что он совсем бедный, что он такой несчастный, простой человек, что он глупый и темный, чтоб простили ему добрые люди, сберегли, защитили, накормили б, напоили его, в беде не оставили, и бог знает что еще причитал Семен Иванович. Причитая же, он с диким страхом глядел кругом, как будто ожидая, что вот-вот сейчас потолок упадет или пол провалится. Всем стало жалко, глядя на бедного, и у всех умягчились сердца. Хозяйка, рыдая, как баба, и причитая про свое сиротство, сама уложила больного в постель. Марк Иванович, видя бесполезность трогать Наполеонову память, тоже немедленно впал в добродушие и начал тоже оказывать помощь. Другие, чтоб что-нибудь в свою очередь сделать, предложили малинный настой, говоря, что он немедленно и от всего помогает и что будет очень приятен больному; но Зимовейкин тотчас же всех опровергнул, включив, что в таком деле нет лучше доброго приема какой-нибудь ромашки забористой. Что же касается до Зиновья Прокофьевича, то, имея доброе сердце, он рыдал и заливался слезами, раскаиваясь, что пугал Семена Ивановича разными небылицами, и, вникнув в последние слова больного, что он совсем бедный и чтоб его накормили, пустился созидать подписку, ограничиваясь ею покамест в углах. Все охали и ахали, всем было и жалко и горько, и все меж тем дивились, что вот как же это таким образом мог совсем заробеть человек? И из чего ж заробел? Добро бы был при месте большом, женой обладал, детей поразвел; добро б его там под суд какой ни есть притянули; а то ведь и человек совсем дрянь, с одним сундуком и с немецким замком, лежал с лишком двадцать лет за ширмами, молчал, свету и горя не знал, скопидомничал, и вдруг вздумалось теперь человеку, с пошлого, праздного слова какого-нибудь, совсем перевернуть себе голову, совсем забояться о том, что на свете вдруг стало жить тяжело…