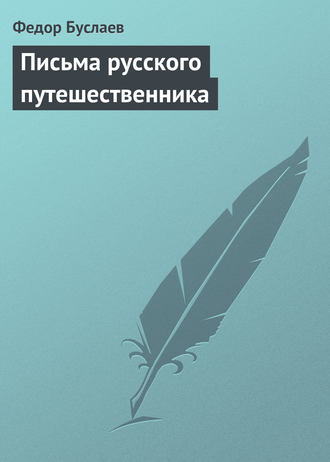
Федор Буслаев
Письма русского путешественника
Прежде всего поражает в «Письмах Русского Путешественника» многосторонняя и основательная образованность, которую могла дать ему Россия в конце прошлого столетия и в которой он нашел достаточное приготовление, чтобы не только вести полезную для себя беседу с такими европейскими знаменитостями, как Виланд[4], Гердер, Лафатер, Кант, Боннет, но и внушить им уважение к нему.
В этих же письмах из-за границы Карамзин сообщает много подробностей о годах своего раннего учения, подробностей, которыми не раз пользовались его биографы.
Имя Парижа стало Карамзину известно почти вместе с его собственным именем: так мною читал он об этом городе в романах, так много слышал от путешественников; по романам же и газетным статьям еще в ранней молодости восхищался англичанами и воображал Англию самою приятнейшею для своего сердца землею. Видеть Париж и Лондон – всегда было его мечтою; и некогда сам он собирался писать роман и в воображении объездить те самые земли, в которые после поехал. Потом детские мечты заменились основательным желанием: он хотел провести свою юность в Лейпциге: туда стремились его мысли; в тамошнем университете хотел он собрать нужное для искания той истины, о которой – по его собственному выражению – с самых младенческих лет тоскует его сердце.
Разделяя вкусы своих современников, он коротко был знаком с французскими писателями XVIII столетия и поклонялся Жан-Жаку Руссо; но вместе с тем уже с ранних лет привык он уважать и литературу немецкую и английскую; так что, когда в чужих краях ему случилось предстать перед знаменитыми личностями того времени и видеть знаменитые предметы, он не только не поражался новизною, но, как давно знакомое и любимое, соединял виденное и слышанное со своими воспоминаниями. В Лондоне осматривает он картины с сюжетами из шекспировских драм, и, уже зная твердо Шекспира, почти не имеет нужды справляться с описанием в каталоге, и, смотря на картины, угадывает содержание. В Лозанне, в одном саду, видит надпись, взятую из Аддисоновой оды[5], и при этом вспоминает, как некогда просидел он целую летнюю ночь за переводом той самой оды и как восходящее солнце осветило его тогда за такою работой. «Это утро, – присовокупляет молодой путешественник, – было одно из лучших в моей жизни». В Лейпциге он знакомится с известным в то время литератором Вейсе[6], статьи которого из «Друга детей» он уже переводил прежде. В Цюрихе отыскивает архидиакона Тоблера[7], имя которого ему хорошо было знакомо по переводу Томсоновых «Времен года», изданных Геснером[8]. В том же городе является к Лафатеру, с которым он был в переписке еще в Москве и который принимает его, как старого друга. В Париже нисколько не удивляет его французский театр, потому что, как он по этому предмету выразился: «Я и теперь не переменил мнения своего о французской Мельпомене[9]: она благородна, величественна, прекрасна, но никогда не тронет, не потрясет сердца моего так, как муза Шекспирова и некоторых (правда немногих) немцев».







