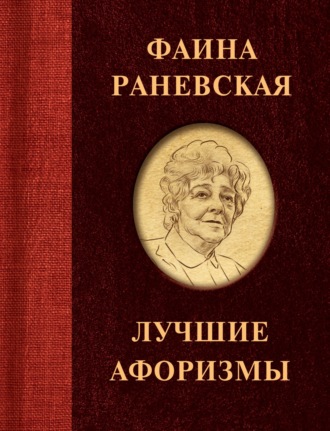
Фаина Раневская
Фаина Раневская. Лучшие афоризмы
Кто бы знал мое одиночество? Будь он проклят, этот самый талант, сделавший меня несчастной. Но ведь зрители действительно любят? В чем же дело? Почему ж так тяжело в театре? В кино тоже гангстеры.
Когда мне не дают роли, чувствую себя пианисткой, которой отрубили руки.
Кто-то сказал, кажется, Стендаль: «Если у человека есть сердце, он не хочет, чтобы его жизнь бросалась в глаза». И это решило судьбу книги.
Когда она усыпала пол моей комнаты, – листы бумаги валялись обратной стороной, т. е. белым, было похоже, что это мертвые птицы. «Воспоминания» – невольная сплетня.
Моя жизнь: одиночество, одиночество, одиночество до конца дней.
Мысли тянутся к началу жизни – значит, жизнь подходит к концу.
Лесбиянство, гомосексуализм, мазохизм, садизм – это не извращения. Извращений, собственно, только два: хоккей на траве и балет на льду.
Кто, кроме моей Павлы Леонтьевны, хотел мне добра в театре? Кто мучился, когда я сидела без работы? Никому я не была нужна. Охлопков, Завадский, Александр Дмитриевич Попов были снисходительны, Завадский ненавидел. Я бегала из театра в театр, искала, не находила. И это все. Личная жизнь тоже не состоялась…В театре Завадского заживо гнию.
Люблю музыку – Бах, Глюк, Гендель, Бетховен, Моцарт. Люблю Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна – как он угадал Лермонтова в «Маскараде».
Мне попадались люди, не любящие Чехова, но это были люди, не любившие никого, кроме самих себя.
Когда я утром просыпаюсь и чувствую, что у меня ничего не болит – я думаю, что уже померла!
Меня забавляет волнение людей по пустякам – сама была такой же дурой. Теперь перед финишем понимаю ясно, что все пустое. Нужна только доброта, сострадание.
Мучительная нежность к животным, жалость к ним, – мучаюсь по ночам, к людям этого уже не осталось. Старух, стариков только и жалко, никому не нужных.
Народ у нас самый даровитый, добрый и совестливый. Но практически как-то складывается так, что постоянно, процентов на 80, нас окружают идиоты, мошенники и жуткие дамы без собачек. Беда!
Недавно прочитала в газете: «Великая актриса Раневская». Стало смешно. Великие живут как люди, а я живу бездомной собакой, хотя есть жилище! Есть приблудная собака, она живет моей заботой, – собакой одинокой живу я, и недолго, слава Богу, осталось. Кто бы знал, как я была несчастна в этой проклятой жизни, со всеми своими талантами. Кто бы знал мое одиночество! Успех – глупо мне, умной, ему радоваться.
Ничего кроме отчаянья от невозможности что-либо изменить в моей судьбе.
Научиться быть артистом нельзя. Можно развить свое дарование, научиться говорить, изъясняться, но потрясать – нет. Для этого надо родиться с природой актера.
– Нонна, а что, артист Н. умер?
– Умер.
– То-то я смотрю, он в гробу лежит…
Моя любимая болезнь – чесотка: почесался и еще хочется. А самая ненавистная – геморрой: ни себе посмотреть, ни людям показать.
Ну и лица мне попадаются, не лица, а личное оскорбление! В театр вхожу, как в мусоропровод: фальшь, жестокость, лицемерие. Ни одного честного слова, ни одного честного глаза! Карьеризм, подлость, алчные старухи.
Нас приучили к одноклеточным словам, куцым мыслям – играй после этого Островского!
Можно было назвать любую дату – метрик никто не требовал. Любочка (Л. Орлова) скостила себе десяток лет, я же, идиотка, только год или два – не помню. Посчитала, что столько провела на курортах, а курорты, как известно, не в счет! (О том времени, когда начали выдавать паспорта.)
Ничто так не дает понять и ощутить своего одиночества, как когда некому рассказать свой сон.
Поняла, в чем мое несчастье: я скорее поэт, доморощенный философ, «бытовая дура» – не лажу с бытом! Вещи покупаю, чтобы их дарить. Одежду ношу старую, всегда неудачную. Урод я.
Напора красоты не может сдержать ничто! (Глядя на прореху в своей юбке.)
Невоспитанность в зрелости говорит об отсутствии сердца.
Однажды Раневской позвонил молодой человек, сказав, что работает над дипломом о Пушкине. На эту тему она была готова говорить всегда. Он стал приходить чуть ли не каждый день. Приходил с пустым портфелем, а уходил с тяжеленным – вынес половину библиотеки. Она знала об этом. «И вы никак не реагировали?» – «Почему? Я ему страшно отомстила!» – «Как же?» – «Когда он в очередной раз ко мне пришел, я своим голосом в домофон сказала: “Раневской нет дома”».
Нет болезни мучительнее тоски.
Оптимизм – это недостаток информации.
Однажды начало генеральной репетиции перенесли сначала на час, потом еще на 15 минут. Ждали представителя райкома – даму очень средних лет, заслуженного работника культуры. Раневская, все это время не уходившая со сцены, в сильнейшем раздражении спросила в микрофон:
– Кто-нибудь видел нашу ЗасРаКу?!
Посмотрите, какое величие! Нельзя оторваться от них, не думать о них. Они стареют, у нас на глазах распускаясь. Первый человек, который сравнил женщину с розой, был поэтом. А второй – пошляком. (О розах.)
Одиночество – это состояние, о котором некому рассказать.
– Он находится слишком далеко от начала.
Ночью болит все, а больше всего – совесть.
Одиночество как состояние не поддается лечению.
Он умрет от расширения фантазии. (О режиссере Ю. Завадском.)
Орфографические ошибки в письме – как клоп на белой блузке.

© Александр Гладштейн/РИА Новости
Маргарита Терехова в роли Люси (слева) и Фаина Раневская в роли Роды в сцене из спектакля по пьесе Вина Дельмара «Дальше – тишина». Государственный академический театр имени Моссовета.
Очень завидую людям, которые говорят о себе легко и даже с удовольствием. Мне этого не хотелось, не нравилось.
О своих работах в кино: «Деньги съедены, а позор остался».
Очень тяжело быть гением среди козявок.
После очередной стычки с главным режиссером Мосфильма Иваном Пырьевым Раневская сказала, что она лучше будет принимать «антипырьин» три раза в день, чем согласится на совместную работу.
Принесли собаку, старую, с перебитыми ногами. Лечили ее добрые собачьи врачи. Собака гораздо добрее человека и благороднее. Теперь она моя большая и, может быть, единственная радость. Она сторожит меня, никого не пускает в дом. Дай ей Бог здоровья!
Перестала думать о публике и сразу потеряла стыд. А может быть, в буквальном смысле «потеряла стыд» – ничего о себе не знаю.
Перечитываю Бабеля в сотый раз и все больше и больше изумляюсь этому чуду убиенному.
– Ох, вы знаете, у Завадского такое горе!
– Какое горе?
– Он умер.
О режиссере: перпетум кобеле.
Пи-пи в трамвае – все, что он сделал в искусстве.
Поклонница просит домашний телефон Раневской. Она:
– Дорогая, откуда я его знаю? Я же сама себе никогда не звоню.
Перед великим умом склоняю голову, перед Великим сердцем – колени – сказал Гете. И я с ним заодно.
Понятна мысль моя неглубокая?
«Просящему дай» – Евангелие. А что значит отдавать и непросящему? Даже то, что нужно самому?
Птицы ругаются, как актрисы из-за ролей. Я видела, как воробушек явно говорил колкости другому, крохотному и немощному, и в результате ткнул его клювом в голову. Все как у людей.
Ребенка с первого класса школы надо учить науке одиночества.
Прислали на чтение две пьесы.
Одна называлась «Витаминчик», другая – «Куда смотрит милиция?».
Потом было объяснение с автором, и, выслушав меня, он грустно сказал: «Я вижу, что юмор вам недоступен».
Против кого дружим, девочки? (Заглядывая в комнату, где сидели актрисы и про кого-то бурно сплетничали.)
Раневская кочевала по театрам. Театральный критик Наталья Крымова спросила:
– Зачем все это, Фаина Георгиевна?
– Искала… – ответила Раневская.
– Что искали?
– Святое искусство.
– Нашли?
– Да.
– Где?
– В Третьяковской галерее…
Сегодня была у Щепкиной-Куперник, которая говорила о корректоре, который переделал фразу «на камне стояли Марс и Венера» в «МАРКС и Венера».
Проклятый девятнадцатый век, проклятое воспитание: не могу стоять, когда мужчины сидят.
Самое ужасное – обидеть, огорчить человека; ударить собаку, не покормить ее голодную.
Сегодня встретила «первую любовь». Шамкает вставными челюстями, а какая это была прелесть… Мы оба стесняемся нашей старости.
Сейчас, когда человек стесняется сказать, что ему не хочется умирать, он говорит так: очень хочется выжить, чтобы посмотреть, что будет потом. Как будто если бы не это, он немедленно был бы готов лечь в гроб.
Страшно, когда тебе внутри восемнадцать, когда восхищаешься прекрасной музыкой, стихами, живописью, а тебе уже пора, ты ничего не успела, а только начинаешь жить!
Сказка – это когда женился на лягушке, а она оказалась царевной. А быль – это когда наоборот.







