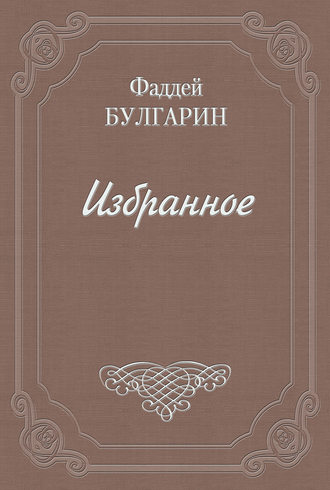
Фаддей Булгарин
Иван Иванович Выжигин
Полк наш был в деле и отличился более других. Но мы много потеряли убитыми и ранеными, сражаясь с отборными неприятельскими войсками. В свалке с спагами я немножко погорячился и врезался с моими гусарами в самую средину густой их толпы, которая не могла бежать от нас, потому что дефилея занята была янычарами. Суматоха была ужасная! Янычары стреляли в нас с боков дефилеи и из оврага; спаги рубились, как отчаянные: от крику и выстрелов нельзя было слышать команды; трубы гремели атаку, и мы рвались вперед чрез ряды неприятельские. Я попал в такую тесноту, что едва мог владеть саблею. Удары посыпались со всех сторон, и я наудачу рубил направо и налево. Но вскоре я почувствовал, что кровь заливает мне глаза и что левая рука не в силах держать лошади. В это время кто-то схватил мою лошадь за поводья и потащил насильно назад. Выбравшись из толпы на дорогу, я протер глаза и увидел, что это был – Петров.
Я получил две раны в голову, одну в левую руку и одну в правое плечо. Кровь текла ручьями, и я ослабевал ежеминутно. Отъехав с версту от места сражения, Петров снял меня с лошади, вынул из своего чемодана готовые бинты, компрессы и корпию, обмыл раны мои водою с уксусом, перевязал их, потом посадил на лошадь, сел сзади седла и, держа меня в своих объятиях, повез в вагенбург, привязав свою лошадь к моему стремени.
Раны мои были не опасны, но болезненны. Опасались только, чтоб от излишней потери крови слабость моя не превратилась в истощение. Я едва мог передвигать ноги и воспользовался первым случаем, чтоб отправиться в Россию.
Петров не отходил от меня ни на одну минуту и даже спал при мне. Ни одна нежная мать не может иметь такого попечения о единородном, любезном ей сыне, какое имел обо мне отставной солдат. Добрый Петров сам варил для меня пищу, давал лекарство, перевязывал раны, водил под руки прогуливаться; днем, во время сна, отгонял мух, ночью вскакивал, лишь только услышит, что я стонаю или кашляю. Он жил только для одного меня, и когда я хотел благодарить его, он всегда морщился и говорил:
– Когда вы благодарите меня, ваше благородие, мне что-то неловко и нехорошо, как будто стыдно чего. Ведь я должен служить моему командиру: за что же благодарить! Выздоравливайте. Иван Иванович, вот этим так потешите меня.
Приехав в Каменец-Подольск, я написал письмо к Ми-ловидиыу в Киев, намереваясь отправиться к нему, если он находится в этом городе. Я адресовал письмо к знакомому мне коменданту, который уведомил меня, что Миловидин помирился с дядею и уехал с ним вместе в Петербург. Это поразило меня, потому что денег было у меня весьма мало и я не мог доехать с ними до Москвы.
– Худо, брат, без денег, – сказал я Петрову.
– Правда, сударь, только нам нельзя на это жаловаться.
– Как, да у меня всего тридцать червонцев!
– Немного поболее, – сказал Петров, вышел в другую комнату и принес два тяжелые череса.
– Это что значит? – воскликнул я с удивлением.
– Ваши деньги, сударь, – отвечал Петров. – Здесь счетом полторы тысячи полновесных турецких червонцев, да вот, кроме того, алмазное перо.
– Откуда же ты взял это?
– Взяли вы, а я только припрятал. Когда ночью вы забрали в плен пехотинцев, я снял с их начальника чалму и кушак, чтоб они не достались другому, а когда вы в глазах целого полка подцепили этого удалого агу, я поскакал на то место, где он свалился как сноп, и также подобрал его чалму, зная, что турки прячут в ней свои червонцы. Кроме того, в седле я нашел горсти две золота, и вот из этого и составилась у нас казна. Я не говорил вам прежде, опасаясь, чтобы вы не вздумали отдать деньги назад туркам, а еще более, чтобы не проиграли их, потому что вы уже начали проигрывать на биваках, от скуки.
– Послушай, Петров, это твои деньги, и я не соглашусь иначе взять их, как взаймы.
– Отчего же они мои, когда вы добыли их, жертвуя жизнию? Добыча в сражении не грех и не стыд, а грешно и стыдно обирать своих да выгадывать на провианте, на фураже да на гошпиталях! Но Бог с ними, а денежки-то наши! Берите как угодно, взаймы или на сохранение, только возьмите: они ваши.
Я продал моих лошадей и оставил у себя турецкое оружие и конский прибор, в памяти моего торжества. Купив покойную коляску, я отправился для излечения ран в Москву, куда и прибыл благополучно в конце осени.
ГЛАВА XXXI
ОТСТАВКА. ОТЪЕЗД В ПЕТЕРБУРГ. РАЗНИЦА МЕЖДУ ПЕТЕРБУРГСКИМ И МОСКОВСКИМ ОБЩЕСТВОМ
ЗЛОДЕЙСКИЙ УМЫСЕЛ. НЕСЧАСТНАЯ ОЛИНЬКА. Я ЗАКЛЮЧЕН В ТЮРЬМУ.МОЖНО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ И В БЕДСТВИИ
Приехав в Москву, я тотчас полетел в монастырь к матушке, которая едва не лишилась чувств от радости, увидев меня с знаком отличия. Но бледность моя и слабость привели ее в беспокойство, и она советовала мне выйти в отставку, опасаясь, чтоб военная служба не расстроила вовсе моего здоровья. Мир был заключен; добрый мой полковник произведен в генералы и полк отдан другому полковнику. Мне самому хотелось отдохнуть и насладиться жизнью, и я, собрав мои аттестаты, подал прошение и получил отставку с повышением в чине и позволением носить военный мундир. Навестив всех моих знакомых и покровительниц, которые уже знали из реляций о моих подвигах и приняли меня благосклонно, я стал лечиться и два месяца не выходил из дому. Матушка посещала меня ежедневно, и я в совещаниях с нею решил, чтоб мне отправиться в Петербург и, имея теперь право на покровительство, просить о каком-нибудь покойном месте, которое могло бы доставить мне пропитание. Кроме того, любопытство влекло меня в знаменитую столицу, где я надеялся также найти Миловидина и кузину Анету, которая наконец соединилась с своим мужем и переселилась в Петербург. Поправившись в здоровье и запасшись рекомендательными письмами, я в конце зимы отправился в путь.
Я приехал ночью и остановился в Демутовом трактире. На другой день поехал я по городу, чтобы ознакомиться с положением улиц, которые знал по плану. Повсеместная чистота, порядок, какая-то милая простота в самом великолепии произвели во мне приятное впечатление и вселили высокое мнение об образованности жителей. Здесь я не встречал ни готических экипажей, как в Москве, ни арлекинской ливреи; не нашел ни грязных московских переулков, ни пестрых домов с уродливыми изваяниями, ни неопрятных лавок, ни полуразрушенных хижин рядом с пышными и пустыми палатами. Доселе я не имел никакого понятия о европейском городе и теперь только понял, отчего петербургские жители называют Москву огромною деревней. Правда, что Москва имеет преимущество пред Петербургом своим местоположением, древностями и историческими воспоминаниями. Москва есть сердце России, а Петербург голова. Москва есть то же для русских, что был Рим для потомков Ромула, когда Константин Великий перенес престол в прелестную Византию. Москва есть колыбель всех древних русских фамилий и могущества России, и как ни мил русскому Петербург, сей памятник величия Петра Великого и его преемников, но сердце его всегда сильнее бьется при воспоминании о Москве. Подобно Мухаметанину, которому вера повеливает посетить Мекку хотя однажды в жизни, русский почитает за священный долг посетить Москву. Вид Кремля и храмов Божиих, где сосредоточивались желания, надежды, радости и скорби наших предков, питает душу и возвышает любовь к отечеству.
Я отыскал кузину Анету, которая чрезвычайно мне обрадовалась. Она познакомила меня с своим мужем, огромным и толстым человеком с татарскою физиономиею, который жил своим чередом, не заботясь о жене, играл в вист, ел и пил за десятерых и занимался поставкою вина в казну. Он поклонился мне довольно сухо, просил посещать его и, оставив наедине с женою, отправился – есть устрицы. Кузина Анета сказала мне, что Миловидин был с женою и с дядею в Петербурге, для уничтожения духовного завещания, разных записей и векселей, которые Авдотья Ивановна заставила его подписать, когда он находился в ее когтях. Окончив все дела благополучно, Миловидин решился навсегда отречься от общества большого света, который ему наскучил; он купил себе прелестное имение в Крыму, на южном берегу, и поселился там, вместе с своим дядею, который все свои прежние привычки заменил страстью к гран-пассиянсу и чтению "Московских ведомостей". Он сделался великим политиком и, по прорицаниям Мартина Задека, Великого Алберта и по Брюсову календарю, предсказывал великие перемены в мире. Миловидин и жена его положили правилом слушать его два часа в сутки, и за это он отдал им все свое имение.
Кузина Анета познакомила меня в некоторых домах лучшего общества; кроме того, я имел ко многим значащим людям письма из Москвы, и так вскоре я составил себе большой круг знакомства. Петербургское общество гораздо холоднее московского, и в каждом доме стараются перенимать этикет и приличия сверху. Присутствие иностранных послов сообщает обществам дипломатическую важность и какую-то воздержность, которые чрезвычайно стесняют человека в обращении. Здесь не любят ни рассказчиков, ни весельчаков, ни людей, занимающих общество своими дарованиями, которых так честят в московских беседах. В петербургском обществе каждый человек должен говорить по нотам, ходить по плану и являться в дом по востребованию, как в комедии. Здесь каждое знакомство рассчитано и ведется по значению, по связям, по родству. Каждый почитает своих знакомых ступенями в лестнице к своему возвышению или выгодам и набирает их столько, сколько нужно, чтоб добраться доверху. Одних принимают для того, что они нужны, других для того, чтоб они служили для забавы нужных людей. Забава – игра в карты; итак, кто может играть в большую игру, тот принимается в обществах, чтоб составлять партию важных лиц. Петербург слывет музыкальным городом, или, сказать справедливее, городом, где много поют и играют на разных инструментах. Это правда, но из этого не должно заключать, чтоб здесь было много истинных знатоков и любителей музыки. Играют в карты для того, чтоб менее говорить; слушают музыку для той же причины; за обедом говорят о погоде. Здесь не любят разговаривать, потому что каждый чего-нибудь ищет или надеется, а в таком случае опасно проговориться. Московская откровенная болтливость, непринужденность в обхождении, старинное русское хлебосольство почитаются здесь грубостью и старинною дикостью. Здесь не просят так, как в Москве, с первого знакомства каждый день к обеду и на вечер, но зовут из милости, и в Петербурге, где все люди заняты делом или бездельем, нельзя посещать знакомых иначе, как только в известные дни, часы и на известное время. В Москве составлен какой-то причудливый язык из французских и русских слов, в Петербурге вы не услышите по-русски ни одного слова; должно говорить по-французски с такою чистотою произношения, как в Париже; сделать ошибку против правил французского языка почитается невежеством. В Москве _иногда_ говорят о русской литературе, о русских журналах, о писателях; а в Петербурге это почитается дурным тоном. Высокое воспитание полагается в том, чтоб судить о французской литературе по курсу Лагарпа, по статьям из журнала прений (journ. des Debats) и читать английские романы в подлиннике. Ни одного прославленного писателя, ни одного знаменитого русского артиста не примут в высшее общество, если он не пользуется особенным покровительством какого-нибудь значащего человека. Одно исключение из правила, а именно уважение к московским связям: хозяин или хозяйка, представляя нового человека, _не значащего_ в свете, извиняется тем, что это _знакомый по Москве_. Петербургское общество в молодых летах приобретает навык к холодности в обращении, которая делает молодых людей несносными и скучными. Они дружатся не по сходству вкуса и образа мыслей, но по значению и связям их родственников. Каждый человек, который не может им ничего сделать, не в состоянии помочь, пособить к возвышению ни собственным влиянием, ни связями, почитается у них лишним в обществе; они обходятся с ним гордо и даже избегают его знакомства. Женщины милы, как везде, когда они хороши собою и обходительны. Но женщины здесь также подчинены всеобщему духу искательства, как и мужчины, холодны в обращении и слишком, слишком смиренны, по крайней мере – на вид. Нежность и сострадание в такой моде, как шляпки. Московские барыни бранятся, ветреничают, но помогают от души. Здесь вздыхают, прекрасно говорят о нравственности – и разыгрывают лотереи для бедных. Петербургский бал кажется устроен комитетом из французского балетмейстера, церемонийместера китайского, немецкого рыцаря печального образа и итальянского декоратора. Все на своем месте, всего довольно, а более всего скуки. В Москве, напротив того, иногда танцуют не в такт, иногда музыканты разногласят, иногда в числе восковых свечей находятся сальные, иногда полы скрипят в танцевальной зале; за _сытным_ ужином иногда с избытком льется шампанское; иногда на бале бывает более шуму, нежели на Красной плащади: но там веселятся не из приличий, а от чистого сердца; приезжают нарочно в город, чтобы потанцевать и повеселиться… Но я слишком заговорился и позабыл сказать, что нет правила без исключения, и все, что здесь говорится в общем смысле, должно брать только в частности.
Я играл в вист в большую игру, танцевал, говорил чисто по-французски, пел и играл на фортепиано в домашних концертах, ездил в карете четверкою и имел связи _по Москве_, то есть мог с полчаса говорить с хозяйкою о московской ее родне и знакомых, следовательно, меня везде принимали и приглашали в домы. Но, привыкнув в Москве к дружескому и ласковому со мною обхождению, я скучал в обществах, где хозяева едва удостаивали меня взглядом и вопросом о здоровье или о погоде. Я не был никому _нужен_, и потому, принимая меня, думали, что мне делают _одолжение_. Я приметил даже, что в обществах составилась против меня враждебная партия из злых старых и молодых людей, надутых несносною гордостью.
Дружба кузины Анеты и небольшой, но отличный круг ее знакомства вознаграждали меня за скуку в большом свете, где кузина Анета появлялась только для приличий.
Наступило лето, город опустел, все разъехались по дачам, и я еще ничего для себя не сделал. Кузина Анета советовала мне приобресть прежде милость какого-нибудь значащего вельможи, а после стараться о месте. Вельможи были со мною чрезвычайно ласковы за карточными столами и в разговорах о погоде; но лишь только я намекал о желании моем быть полезным службою, об усердии моем к общему благу, лицо вельможи принимало такой холодный вид, что мороз пробегал у меня по жилам. Я скорее бы решился броситься в толпу спагов, чем из ледяного сердца извлекать искру соучастия к моей судьбе. Женщины просили только за свою родню, и так я решился подождать благоприятных обстоятельств.
Однажды, выехав поутру со двора и возвратясь домой, чтоб переодеться к званому обеду, я нашел письмо следующего содержания, писанное по-французски женскою рукой:
"Я знаю, что вы столь же скромны, как и любезны. Приезжайте сегодня в 12 часов вечера, в деревню Емельяновку, за Екатерингофом. Оставьте экипаж за деревней и ступайте пешком, один, по взморью. Там, в уединенном домике, над окнами которого увидите венок из свежих ветвей, ожидает вас особа, которая принимает живейшее участие в судьбе вашей. Обстоятельства принуждают ее скрываться и быть другом вашим втайне. Приезжайте – вы все узнаете".
"Любовная интрига", – подумал я. Итак, и здешние скромницы, которые едва поднимают глаза в присутствии чужого мужчины, любят уединенные загородные домики! О, эти дачи – прелестное изобретение! Можно жить рядом, сходиться на прогулках в уединенном домике, нанятом на имя какого-нибудь чиновника, ездить к колонистам кушать сливки и т. п. "Прекрасно, прекрасно! – думал я. – Это меня рассеет, вознаградит за скуку". Я решился ехать на место свидания.
В двенадцать часов я был в условленном месте, нашел уединенный домик, постучался в калитку, старуха крестьянка отперла ее, и я вошел в избу. В первой комнате я не нашел никого, кроме лакея, который стоял у дверей; он тотчас защелкнул их и вышел в сени, лишь только я переступил чрез порог. В сию самую минуту вышли три незнакомые мне человека из другой комнаты, и один из них подошел ко мне, просил присесть рядом с ним на скамье и выслушать его. Я был несколько встревожен этою внезапною и неожиданною сценою, но решился терпеливо дождаться конца.
– Иван Иванович! – сказал мне незнакомец. – Вы находитесь теперь в таком положении, что от вас единственно зависит погибнуть невозвратно или быть навсегда счастливым. По рождению, хотя незаконному, вы принадлежите к фамилии, которая хочет устроить судьбу вашу. Если вы согласитесь подписать бумагу и сознать ее здесь же, в маклерской книге, то этим поступком вы загладите несправедливость одного из членов этой почтенной фамилии, получите тотчас двадцать тысяч рублей наличными деньгами и, сверх того, будете всю жизнь пользоваться покровительством весьма важных лиц; достанете место, какого сами пожелаете; будете иметь чины, ордена; женитесь богато; словом, будете счастливы. В противном случае погибель ваша неизбежна. Противу вас собраны показания к обвинению в важных преступлениях, и вам не миновать Сибири, а может быть, еще чего-нибудь худшего. Вы человек одинокий, безродный, без покровительства: знакомые ваши оставят вас при первом несчастии, и женщины, которые помогали вам в малых ваших делах, откажутся от преступника, против которого будут действовать люди сильные, богатые. Решайтесь, вот бумаги и чернила: подпишите – и с Богом! Деньги, если угодно, возьмите прежде: вот оне!
Пока один из незнакомцев говорил, другой положил на стол два листа гербовой бумаги, исписанные кругом, и большую книгу, а третий считал ассигнации. Помолчав немного, я отвечал:
– Милостивый государь! если дело ваше чистое, то вам надлежало бы отнестись ко мне с предложениями прямо, без всяких таинств. Сначала прошу вас растолковать мне, какая фамилия требует от меня очищения несправедливости одного из ее членов? Знаю, что я обязан рождением на свет князю Ивану Александровичу Милославскому, последнему в роде. Он умер от ран, не зная даже о моем существовании, ибо оставил мать мою беременною. Имение его разделено на четыре части между его двоюродными племянниками, которых я даже вовсе не знаю, потому что они воспитывались где-то за границею и теперь служат при Миссиях. Я не был никогда в связях с родными покойного моего отца и не имел с ними никаких сношений по делам. Итак, позвольте мне прежде прочесть бумаги, которые я должен подписать, после раздумать хорошенько и, наконец, решиться на что-нибудь. Вы напрасно стращаете меня Сибирью и мнимыми моими преступлениями. Знаете, что я нетрусливого десятка, имею свои заслуги и найду себе покровительство в законах моего отечества. – Сказав это, я встал и подошел к столу, чтоб взять бумаги; но один из незнакомцев тотчас схватил их и спрятал за пазуху.
– Итак, вы не хотите подписать? – спросил меня прежний незнакомец.
– Я ничего не подписываю, не читая, – отвечал я.
– Это последнее ваше слово?
– Последнее.
– Так пеняйте на себя, – сказал незнакомец. Он велел подавать карету. Несколько минут мы провели в молчании; вдруг четвероместная карета подъехала к крыльцу, и я, взглянув в окно, увидел, что в карете сидела женщина. Три незнакомца взяли книгу, вышли поспешно из избы, сели в карету и поехали. Я остался один в доме.
Крестьянин хозяин и старуха, мать его, вошли в комнату и спросили, не угодно ли мне здесь ночевать?
– Кто здесь нанимает квартиру? – спросил я.
– Да не знаем, батюшка, – отвечал крестьянин, – домишка у нас стоит пустой целое лето, а вчера господа приехали, наняли на одне сутки, пообедали здесь, да вот и уехали. Ведь вам-то лучше знать, кто они.
Я вышел из дому и пошел поспешно к моей карете, размышляя об этом необыкновенном происшествии. Спустясь вниз к морскому берегу и проходя мимо кустов, я услышал шорох. Я оглянулся, и в то же мгновение раздался выстрел: пуля просвистела мимо моей головы. Ночь была ясная, как день; вдруг из кустов поднялся человек, и я узнал – Вороватина!
Он пустился бежать из всей силы, между кустами, и на бегу заряжал ружье. Будучи безоружен, я не осмелился его преследовать и побежал к тому месту, где оставил свою карету. Но я не нашел ее и, на песке увидев следы поворота ее, догадался, что она, вероятно, отправлена в город злоумышленниками. Я поднял с земли дубину для моей защиты и пошел по берегу моря, в Екатерингоф.
Я шел быстрыми шагами, часто оглядываясь, в опасении погони или засады. На половине дороги я услышал шелест в лесу. Сохранив все мое хладнокровие, я решился устремиться навстречу опасности, которой избегнуть было невозможно, зная, что в решительную минуту смелость торжествует всегда над расчетливостью. Подняв на плечо мою дубину, где мелькало что-то, я бросился вперед и встретил – женщину.
– Пощадите меня! ах, пощадите меня! – воскликнула она. – Я и так уже несчастна.
Я остановился, как громом пораженный. Этот голос был знаком моему сердцу; он тронул меня и привел кровь мою в движение. Мне казалось, что я слышу голос Груни. Я взял женщину за руку, в безмолвии вывел из лесу, взглянул ей в лицо, глаза наши встретились, и внезапный трепет пробежал по всем моим жилам. Девица в самом цвете юности, прелестная, как ангел, стояла передо мною и, сложив руки на груди, взорами умоляла о сострадании. Я смотрел на нее и не мог вымолвить слова. Темно-каштановые ее волосы были в беспорядке и небрежно лежали на плечах. Длинные ресницы омочены были слезами; темно-голубые глаза, припоминающие мне очаровательные глаза Груни, выражали страх и надежду; прелестные уста были полуоткрыты и, казалось, готовы были умолять меня о жалости. Она была в белом платье и прикрыта темным плащом.
– Что вы делаете здесь в лесу, одни и в такую пору? – спросил я наконец.
– Я бежала от измены, от предательства, от разврата и не знаю, где укрыться; боюсь одна возвратиться в город; не имею убежища, где приклонить голову!
– Пойдемте, я буду вашим провожатым, защитником. Здесь я также нашел измену, предательство, убийц.
Не ожидая ответа прелестной девицы, я взял ее за руку и потащил за собою. Рука ее трепетала в моей руке; она с беспокойством поглядывала на меня и поспешно следовала за мною. Я остановился.
– Вы боитесь меня, – сказал я. – Клянусь Богом и честью русского офицера, что я не имею никакого злого умысла противу вас: я готов пожертвовать жизнью для защиты вашей чести, и пока я жив, никто не осмелится прикоснуться к вам.
– Я верю вам, – сказала девица. – Будьте моим ангелом-хранителем: я несчастна, очень несчастна!
Я был в таком смущении, что не мог более говорить и шел в безмолвии, держа девицу за руку. На конце деревни, примыкающей к Екатерингофу, я увидел мою карету. Наемный лакей спал на траве, кучер и форейтор дремали. Я разбудил их.
– Зачем ты оставил место, где я велел тебе дождаться меня? – спросил я лакея.
– Мне велели вашим именем, отъехать в Екатерингоф.
– Кто?
– Какой-то лакей в ливрее с галунами.
Догадка моя подтвердилась. Я просил девицу сесть в карету. Она повиновалась в молчании.
– Где вы поместите меня? – сказала она, заливаясь слезами, когда я велел гнать в город, во всю конскую прыть. – Я вам сказала, что не имею убежища. Я бедная сирота, брошенная судьбою на свет, без пристанища.
– Будьте спокойны, я холост и не осмеливаюсь везти вас к себе. Я вам доставлю убежище у одной почтенной дамы; но прошу вас, не скрывайтесь предо мною и расскажите мне свои несчастия.
– Без сомнения, я должна вам рассказать все случившееся со мною; но дайте мне слово не преследовать людей, ввергнувших меня в то положение, в котором вы нашли меня.
– Даю вам слово!
– Итак, слушайте. – Отец мой был чиновник штаб-офицерского чина, из бедных дворян. Он служил секретарем при начальнике, который был женат на богатой вдове, имевшей дочь от первого брака: эта дочь моя матушка. Секретарь любил падчерицу своего начальника и был любим взаимно. Любовники, не надеясь получить согласие гордого вотчима, обвенчались тайно. Скажу коротко: брак был открыт, дочь выгнана из дому и лишена наследства, которое утверждено за детьми от второго замужества. Отец мой исключен из службы.
Батюшка мой, снискивая пропитание тяжкими трудами, умер за пять лет пред сим. Матушка сама занималась воспитанием моим, учила меня иностранным языкам, музыке, женским рукоделиям и снискивала пропитание трудами рук своих и преподаванием уроков в женском пансионе. Вот уже два года, как она скончалась, оставив меня бесприютною сиротой!.. – При сих словах девица горько заплакала. Помолчав немного, она продолжала: – Пансион, в котором матушка моя преподавала уроки, не существовал более. Я никого не знала в городе, кроме француженки, содержательницы модного магазина, куда я носила на продажу работу маменькину. Я пошла к француженке и со слезами просила принять меня в работницы. Она исполнила мою просьбу и дала мне почетное место между швеями; ласкала меня, одевала очень хорошо и вообще обходилась со мною лучше, нежели с другими швеями. Я писала к моей бабушке Москву, изобразила ей несчастное мое положение, но не получила ответа. Два года я прожила спокойно в магазине. Вчера мне исполнилось шестнадцать лет.
Хозяйка подарила мне новое платье в день моего рождения, ласкала более обыкновенного, посадила с собою за стол к обеду, возила прогуливаться за город и под вечер, призвав в свою комнату, сказала:
– Олинька! возьми этот короб с бальным платьем и отвези в моей карете на дачу, по Петергофской дороге, к этому старику, который так часто бывает здесь и так ласков с тобою. Это платье для его дочерей. С нынешнего дня ты должна заступить место моей помощницы и исполнять мои комиссии. Господа любят, когда к ним являются такие миленькие магазинщицы, и гораздо лучше платят, нежели нам, старухам. Будь вежлива, друг мой, не дичись, знай и помни, что ты не дурна собою, и умей пользоваться своею красотой – юность не приходит два раза в жизни.
Не смея ослушаться хозяйки, я взяла короб, села в карету и поехала, куда кучер повез меня. Я очень знала в лицо старика, к которому послала меня хозяйка, но не знала, как зовут его. Он много покупал и заказывал в нашем магазине, дарил швей конфетами и обходился с нами очень ласково и вежливо. Я приехала к нему на дачу довольно поздно. Лакей ввел меня в залу и просил следовать за собою во внутренние комнаты. Думая, что он проведет меня к барышням, я смело шла за ним и очутилась в кабинете старика. Он сидел в халате на софе, перед которой стоял столик с плодами, вареньями и вином.
– Присядь здесь, мой ангел, – сказал он.
– Но где барышни? – спросила я в смущении, сама не зная причины.
– Они тотчас придут. Да присядь же, не упрямься!
Я села на стуле, но старик насильно посадил меня на софе и стал потчевать плодами и вином. Я отказалась от вина, но из вежливости должна была отведать плодов. Старик стал гладить меня по лицу, и я, извиняя его летам, не обращала на это внимания; но когда он начал позволять себе вольности, неприличные ни ему, ни мне, я с негодованием вскочила с места и хотела выйти из комнаты. Старик удержал меня за руку и сказал:
– Послушай, милая, не ребячься и не будь упряма. Полюби меня – и ты будешь навеки счастлива!
Я посмотрела на него с презрением и не могла вымолвить ни слова от избытка негодования. Старик продолжал:
– У меня старая и злая жена, и если ты захочешь усладить жизнь мою своею любовью, я с первого дня подарю тебе тридцать тысяч рублей и формальною судебною сделкой обещаю тебе платить в год по десяти тысяч. Ты еще так молода, что чрез десять лет найдешь себе мужа, а если будешь любить меня в течение этого времени, то я обещаю тебе на десятом году еще тридцать тысяч рублей.
Терпение оставило меня.
– Как вы смеете предлагать мне позор и разврат? – воскликнула я. – Видно, что вы не знали в жизни ни одной честной женщины, когда смеете предполагать, что любовь можно купить за деньги. И не стыдно ли вам, в ваши лета, будучи женатым, развращать бедную девушку?
– Но твоя мадам, душенька, уж продала мне тебя. Ты ей должна за одежду, за содержание…
– Хозяйка моя такое же гнусное существо, как и вы! – сказала я, выдернула руку и, когда он хотел заступить мне дорогу, толкнула его так, что он присел на софу. – Бесчестный искуситель! – сказала я, остановясь посреди комнаты и взяв нож в руки. – Выпусти меня, или я научу тебя, как оскорблять русскую дворянку. Знай, что я дочь надворного советника Александра Уральского и генеральской дочери Евгении Славиной. Я равна тебе по роду и не хочу сравнивать себя с тобою по чувствам. Выпусти меня, злодей! – Лишь только я назвала моих родителей, старик закрыл глаза руками и, воскликнув: "Боже мой!", убежал в другую комнату.
Не будучи в состоянии отпереть двери и не осмеливаясь идти в ту комнату, куда скрылся старик, я отворила окно, выскочила в сад, а из саду чрез калитку выбежала на дорогу. В соседней даче я спросила, кто живет в этом доме, и узнала, что мой искуситель Грабилин, муж моей бабушки, изверг, лишивший наследства мою матушку.
– Грабилин! – воскликнул я. – Этот развратник знаком мне от детства. Боже мой, какая странная судьба!
Ольга продолжала:
– В ужасе, в негодовании я не знала, где укрыться. Я боялась идти в город, чтоб злодей не велел догонять меня, и пошла в противуположную сторону. Увидев дорогу направо, я пошла по ней, не рассуждая, куда она приведет меня, и наконец очутилась в лесу. Мне надобно было отдохнуть. Я села под деревом и принялась горько плакать: это облегчило мое сердце. Не зная, куда деваться, и страшась показаться одна на дороге, в лесном месте, я ожидала случая, пока какой-нибудь добрый человек пройдет мимо. Несколько карет проехало по дороге, и больше никого не появлялось. Я начала отчаиваться и решилась ночевать в лесу, как вдруг появились вы и прямо пошли ко мне. Мне было страшно, но когда вы посмотрели мне в глаза, боязнь исчезла и я почувствовала, право, не знаю, не страх, но что-то страшное и вместе утешительное. Я боялась мужчины; но сердце мое шептало мне, что я нашла великодушного защитника. В ваших глазах я вычитала, что вы меня не обидите.
– Сердце ваше угадало, Ольга Александровна: отныне я ваш отец, брат, защитник! Положитесь во всем на Бога и на меня. Пока я жив, вы ни в чем не будете иметь нужды, и я ничего не требую от вас, ничего, кроме одной милости, чтоб вы верили мне, что я готов жертвовать для вас жизнью без всяких видов. Верите ли мне?
Она сжала мою руку и сказала сквозь слезы:






