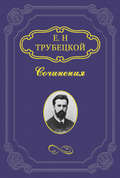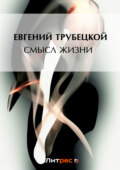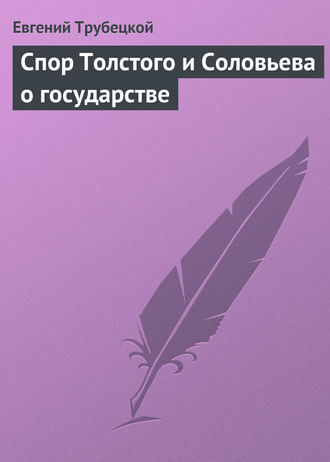
Евгений Трубецкой
Спор Толстого и Соловьева о государстве
Эта новая оценка государства, очевидно, выражает собою полный переворот в воззрениях Соловьева, переход от теократического понимания «Царства Божия» к анархическому. С одной стороны, Царствие Божие безгосударственно: в этом отношении Соловьев, по-видимому, кое-чему научился у своего противника; с другой стороны, государство рисуется ему как область вне-божественная и, следовательно, внецерковная, не подчиненная какому-либо вероисповеданию.
Раньше Соловьев думал, что разрешение религиозной проблемы государства заключается в подчинении его Церкви. Наоборот, в «Трех разговорах» оно представляется ему в виде самостоятельного, чисто человеческого и мирского учреждения. С первого взгляда кажется непонятным, каким образом такое государство может служить целям религии. А между тем в этом парадоксальном утверждении заключается одна из глубочайших мыслей «Трех разговоров». Именно в качестве учреждения вне-профессионального государство может быть ценно с религиозной точки зрения. Одно из коренных религиозных требований заключается в том, чтобы отношения человека к Богу были совершенно свободны, т. е. независимы от какого-либо внешнего давления. Чтобы союз человека с Богом был свободен, требуется, во-первых, чтобы человек не был привлекаем к нему какими-либо побуждениями корысти и страха, а во-вторых, чтобы принудительный государственный аппарат совершенно не вмешивался в область веры. Первое, чего требует от государства религиозный, христианский идеал, заключается в том, чтобы оно не оказывало одностороннего покровительства какой-либо одной вере или исповеданию, а обеспечивало общую свободу; во имя религиозных мотивов оно не должно полагать этой свободе никаких ограничений: ибо свобода всех религиозных мыслей составляет необходимое предварительное условие явления Безусловной Истины. С этой точки зрения в государстве не должно быть никакого господствующего вероисповедания: ибо с господствующим вероисповеданием всегда связываются известные мирские выгоды, которые несовместимы с идеалом совершенной свободы человека в Боге. Религиозный идеал требует не подчинения государства Церкви и тем более – Церкви государству, а как раз наоборот – полного их взаимного освобождения.
Чтобы быть действительной и совершенной выразительницей Царствия Божия, Церковь должна стать царством не от мира сего; для этого она должна окончательно отрешиться от всякой юридической связи с государственной властью. В ней не должно оставаться места для какого-либо принудительного властвования. В этом и заключается та правда религиозного анархизма, о которой говорится в Евангелии: «Князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют над ними. Но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою»[18]. Этими словами Евангелие утверждает анархию не в порядке мирском, а в Царствии Божием. Оно не требует немедленного упразднения государства. Оно хочет не того, чтобы отношения принудительного властвования исчезли из мира, лежащего во зле, а лишь того, чтобы эти отношения и основанные на них иерархические различия не вторгались в Церковь, чтобы они стали ей окончательно посторонними и внешними.