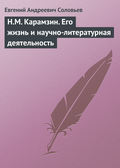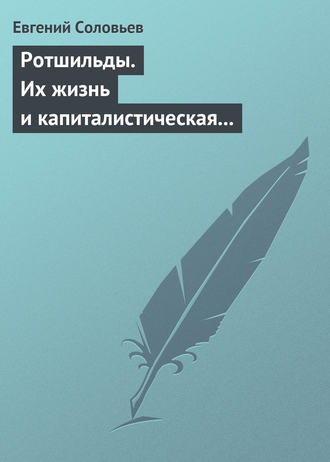
Евгений Андреевич Соловьев
Ротшильды. Их жизнь и капиталистическая деятельность
“Так жить нельзя”, – закончил Кавеньяк свою речь, и в дни искупления, дни пробудившейся совести эти простые слова сыграли историческую роль. Слыша их, все как будто присутствовали при той знаменитой сцене, когда огненная рука написала слова угрозы и гибели на покрытых пурпуром стенах вавилонского дворца. Так жить нельзя; нельзя отдавать все свои силы на братоубийственную борьбу; нельзя с гордо поднятой головой идти к почестям и известности, попирая ногами трупы усталых, измученных, погибших неудачников; нельзя мерить деньгами любовь, счастье, уважение, честь; нельзя торговать своею совестью; нельзя забывать, что есть совесть у человека… Деньги – не все, есть еще справедливость, есть правда, чувство собственного достоинства. Это не просто слова, потому что без них не существовала еще человеческая жизнь и не может существовать. К постыдной смерти, полному духовному вырождению, к невыразимой тоске, к торжеству скотских инстинктов ведет исключительное преклонение перед золотом. И разве не доказало оно уже своей несостоятельности? Посмотрите на эту шумную толпу, посмотрите на нее внимательнее, и вы увидите, что в ней едва ли есть один,
Тяжелой думой не измятый,
До преждевременных добравшийся морщин
Без преступленья иль утраты…
Разве не начинает уже, пусть робко, пусть заглушаемая ревом золотого тельца, звучать проповедь любви, и вместо торжествующего “всякий за себя, дорога – сильному” разве не слышим мы настойчивого призыва к дружбе, взаимности? Человечество устало от кипучей деятельности накопления, оно измучилось в погоне за земными благами, и, кто знает, быть может недалек тот день, когда люди опять вспомнят великие слова Овидия:
Prona que quum spectent animalia cetera terram
Os homini sublime dedit coelum que videre jussit
Et erectos ad sidera tollere vultus.
Дай Бог!
Приложение
О бирже, биржевой игре и спекуляциях
Предыдущее исследование должно было убедить читателя, что главная масса ротшильдовских миллионов собрана на бирже. Здесь барон Натан-Майер за пять лет увеличил свой капитал в 2500 раз, здесь барон Джеймс сыграл свои “ловкие штуки” с алжирским займом и акциями Северной железной дороги, здесь же одерживали свои блестящие триумфы другие главы ротшильдовских банкирских домов. Любопытно будет поэтому повнимательнее присмотреться к этому знаменитому учреждению – бирже, ее обычаям, нравам и шумной суетливой деятельности, создающей с быстротой молнии громадные состояния и разрушающей их в одно мгновение.
Биржи в настоящее время существуют повсюду, где только происходит торговля. На Западе каждый мало-мальски значительный город или местечко имеет одну или несколько бирж – то есть здание, где в определенные часы происходят встречи между купцами и совершаются торговые сделки. В этом смысле, то есть как собрания лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, биржа появилась очень давно, еще задолго до конца средневековой эпохи, вероятно, в XII или, самое позднее, XIII столетии. Само слово “биржа” (фр. bourse, нем. Borse) означает не что иное, как “сборище”. Некоторое же подобие своей современной организации биржи получили в XII веке. Германские северные (то есть вольные, торговые) города, а затем и внутренние, многие города во Франции, Италии и Англии постепенно, один за другим, открывали у себя биржи для товарных оборотов по международной торговле с заморскими странами. У нас, в России, первая биржа появилась, по приказанию правительства, в начале прошлого века. Петр Великий во время своего пребывания за границей, ознакомившись с тамошними биржевыми учреждениями, вполне естественно пришел к убеждению о необходимости завести их и у себя, в России. В 1721 году появился “Регламент для главного магистрата”, в 18-й главе которого говорится: “Такоже надлежит в больших приморских и прочих купеческих знатных городах, со временем же в удобных местах, недалеко от ратуши (думы) построить, по примеру иностранных купеческих городов, биржи, в которые бы сходились торговые граждане для своих торгов и постановления векселей, також и для ведомостей о приходе и отпуске кораблей и коммерции (товаров): понеже в таком месте каждый купец и продавец в один час по вся дни может найти тех, с которыми ему нужда есть видетися”.
Регламент как нельзя лучше объясняет цель и смысл существования биржи. Ничто не может быть невиннее, полезнее, удобнее. Торговым людям отводится место, где они могут встречаться друг с другом, разузнавать о прибытии или отправке кораблей, заключать сделки, расплачиваться по векселям и учитывать их. В такой бирже нет ничего таинственного и непонятного; вся ее деятельность перед нами как на ладони, и решительно не видно, откуда мог появиться своеобразный биржевой жаргон с символическими терминами вроде курс, повышение, понижение, арбитраж и так далее, – терминами, определяющими созидание и разрушение миллионов.
Чтобы биржа из “собрания людей, занимающихся коммерческою деятельностью”, обратилась в место, где происходит игра гораздо более азартная, чем в Монако, где сосредотачиваются порою судьбы народов, войны, мира, реформ, – нужно было лишь одно условие: деньги должны были превратиться в товар, такой же, как хлеб и сало, и подвергаться таким же колебаниям в цене, как и все прочее, появляющееся на рынке. Каким путем это случилось, мы сейчас увидим.
Средние века не знали бумажных денег и обходились при помощи золотых и серебряных монет, право чеканить которые принадлежало владетельным князьям, герцогам, графам, баронам. Каждая монета стоила столько, сколько весила. Случалось, что какой-нибудь промотавшийся владетельный князь, граф или герцог чеканил монету низшего достоинства или меньшую весом и объявлял ее принудительный курс. Но на рынок, особенно внешний рынок, подобные распоряжения не оказывали ни малейшего влияния. Все равно как теперь в Англии в каждом магазине есть весы, на которых проверяется достоинство золотых монет, – так было и в средние века. Бумажные деньги – изобретение очень позднее. Впервые они появились в Англии, в конце XVII века (1699 год), в виде билетов государственного казначейства (exchenge bills). Ничего, кроме хорошего, на первых порах не предвещали эти билеты, которые в каждую данную минуту можно было разменять на золото. Они удовлетворяли потребность возрастающей торговли в денежных знаках, облегчали их пересылку и вообще доставляли торговым людям массу удобств. Они были не больше как векселя, но выданные не частным лицом, а учреждением и, разумеется, на предъявителя. Но главная их роль заключалась в том, что они помогли пустить в оборот залежавшиеся у частных лиц капиталы. Для примера возьмем Францию.
В первой четверти прошлого столетия, в развратную эпоху регентства, когда жажда наживы, наслаждения достигла “высокой степени безобразия”, в Париже появился ловкий и, пожалуй, даже замечательный финансист, шотландец Джон Лоу. Он быстро втерся в доверие регента, министров и их любовниц и задумал поистине грандиозное дело: собрать вместе все или по крайней мере большую часть денег Франции в кассах своего банка и пустить эти миллионы в оборот. Мы доподлинно не знаем, что он замышлял, но, по-видимому, он лелеял мысль о том, чтобы захватить в свои руки всю торговлю с Востоком, разбудить Индию, Китай, Японию и сделать Францию центром мировой торговли. Несмотря на свою горячую фантазию, он, вероятно, осуществил бы свои планы, если бы общество не изменило ему в самую решительную минуту. Лоу прибегнул к бумажным деньгам: он выпускал их целыми грудами, на десятки и сотни миллионов. Ему верили, им увлекались, и целые возы золота привозились к нему, чтобы разменять их на бумаги. Лоу давал премию: бумажный франк стал стоить дороже, чем металлический, и все торопились запастись драгоценными билетами, цена которых шла в гору. Ажиотаж охватил все классы общества. Скромные буржуа выкапывали свои кубышки из земли и несли в банк сбережения целых поколений; аристократы закладывали свои фамильные драгоценности, чтобы достать золота, а через него – магические билеты Лоу, которые каким-то чудным образом превращали 100 франков в 110, в 120 и так далее. Дела Лоу шли превосходно, он уже собрал нужные ему миллионы и рассчитывал приняться за те планы, осуществление которых обещало ему и всем его клиентам громадные прибыли. Но он плохо сообразил, с кем имеет дело. Перед ним были люди, возбужденные, жадные, с глазами, затуманенными жаждой наживы; он не понимал, что это – стадо, подверженное беспричинной панике. Она-то и случилась, – как и почему, сказать трудно. Очень может быть, что враги и завистники Лоу распустили слух, что его дела пошатнулись; очень может быть, что недоверие само овладело публикой, – как бы то ни было, начался отлив. Сигнал был подан самим герцогом Орлеанским и придворными. Как раньше они привозили к Лоу фургоны золота и получали бумажки, так теперь они приносили бумажки и увозили фургоны с золотом. Лоу мужественно держался до последней минуты, но против паники средств нет. Его сундуки быстро опустели, груды магических, ненужных уже бумаг валялись в его банке, а требования размена все возрастали. Лоу бежал: он оказался калифом на час. Премия, которую он платил и которая должна была окупиться торговлею и промышленностью, погубила его. “Гибель одного прокладывает путь другим”. По дороге, открытой Англией и Лоу, вскоре пошли все европейские государства: все стали выпускать бумажные деньги и обязательства разных наименований. Появляясь на рынке в громадном количестве, эти бумажные деньги подвергались постоянным и сильным колебаниям в своей цене. Причина колебания понятна. На самом деле кредитный билет, ассигнация и прочее являются не более как векселем, который выдается правительством или компанией частному лицу. Если правительство или компания богаты, если дела их идут хорошо, они в состоянии уплатить по своим обязательствам и даже наградить своих кредиторов прибылью (дивидендом) за доверие. Если, скажем, выпущены акции для разработки приисков, и вдруг эти прииски оказываются неизмеримо более богатыми, чем предполагалось, то акции непременно повысятся в своей цене, в противоположном случае – понизятся.
Устойчивую цену бумажные деньги вначале не имели. Государства злоупотребляли ими и выпускали их в гораздо большем количестве, чем в состоянии были уплатить. Постоянные войны, бесчестное управление и тому подобные причины выбрасывали на рынок груды бумажных денег, и дело доходило до того, что, например, в дни французской революции за луидор – 20 франков золотом – платили 3 тысячи франков ассигнаций.
Трудно себе представить, какой толчок развитию биржевого дела дали бумажные деньги. Они были не более как товаром, без определенной цены, которая могла повыситься сегодня и упасть завтра. Все зависело от обстоятельств. Все равно как на хлебной бирже цена на хлеб сразу поднимается в случае известий о неурожае, так и на фондовой денежной бирже бумажный рубль может стоить и 90 коп. золотом, и 50 коп. золотом, смотря по тому, в каком положении дела правительства, выпустившего этот рубль. На рынке правительство рассматривается совершенно так же, как частный человек. Достойно ли оно доверия? Аккуратно ли расплачивается по своим векселям? Не ожидает ли его какая катастрофа?
Колебание цены бумажных денег и всевозможных других бумажных ценностей и создали биржевую игру. В сущности, ничто не может быть элементарнее, проще и вместе с тем и удивительнее. Денежная биржа не создает ничего, она только перераспределяет деньги, перекладывая их из одного кармана в другой, все равно как в карточной или другой азартной игре. Проделаем с читателем для примера две главнейших операции: сыграем сначала на наличные (на бумаге наличные у нас, разумеется, есть), а потом – на срок.
С самого начала я должен, впрочем, предупредить, что на наличные в настоящее время почти никто не играет, так как “игра свеч не стоит”. Но мы, как люди неопытные, можем отступить от обычая и проделать всю операцию сначала.
Имея в кармане, скажем, тысячу рублей, мы отправляемся на биржу (если имеем на то право) и вносим эти деньги маклеру с покорнейшей просьбой приобрести на эту сумму акций такого-то и такого-то пароходства или железнодорожного общества или, что самое безопасное, правительственных бумаг. Смотря по обстоятельствам, мы получаем эти бумаги сразу или в течение трех дней, что допускается законом. После этого нам остается только сидеть и ждать. Мы выбрали такие, а не другие бумаги, потому что верим в них и надеемся, что каким-нибудь способом они поднимутся в цене. Допустим, что наши расчеты оправдались. Акция, за которую мы платили по 90 рублей, вдруг повысилась до 95 руб. Следовательно, с каждой акции мы получаем чистого барыша по пяти рублей, а на нашу тысячу – 55 рублей. Откуда взялись эти 55 рублей, нам дела нет; мы довольны результатом и, перепродав свои бумаги, реализуем барыш, не обращая ни малейшего внимания на презрение завзятых биржевиков, третирующих нас за то, что мы играем на наличные.
Нам, продолжаю я свою гипотезу, очень понравилось делать из 1 тысячи – 1050 рублей без всякого труда со своей стороны и, в сущности, с очень незначительным риском. Аппетит, как говорится, приходит по мере того, как человек ест, и наш аппетит тоже начинает разыгрываться. Сегодня мы ухватили 50, завтра 10, потом опять 50 – что лучше? Мы распеваем “гром победы раздавайся” и думаем, что не дурак, должно быть, был тот человек, который выдумал все эти акции, займы, кредитки, а главное – биржевую игру. Как люди скромные, мы до поры до времени удовлетворяемся нашим ничтожным выигрышем и различными философскими соображениями устраняем соблазны большего риска. На беду, нам вдруг невероятно повезло. Случилось это вот как. Мы только что накупили на все наши наличные деньги, в 12 часов утра, японских правительственных акций и мирно ожидаем, что из этого будет. Бьет 2 часа, биржа скоро должна закрыться, как вдруг приходит телеграмма: “Китайцы разбиты на всех пунктах, просят о заключении мира и готовы на какие угодно условия”. Японские правительственные акции, лежащие у нас в кармане, немедленно же идут в гору. Очень может быть, что телеграмма неверна – это безразлично, важно, что акции поднялись, мы их продали и потираем себе руки от удовольствия. Да здравствует Япония!
Постепенно мы присматриваемся к бирже и нет-нет вступаем в разговоры со сведущими людьми. Сведущие люди, узнав, что мы играем на наличные, всплескивают руками и говорят: “Да что вы? Да в каком столетии вы живете? Нельзя-с… вы – люди образованные!” Мы пристыжены и спрашиваем, что же делать. – “Да играйте на срок, на повышение или понижение”. – “На срок? Что же то означает?” – “Да то же, что на наличные, с тою только разницей, что вы продаете то, чего у вас нет, а покупаете у другого то, чего у него нет”… В полном недоумении уходим мы с биржи. А в это время до нас то и дело доносятся слухи: такой-то выиграл 20 тысяч, такой-то – 100… Чем? Игрой на срок…