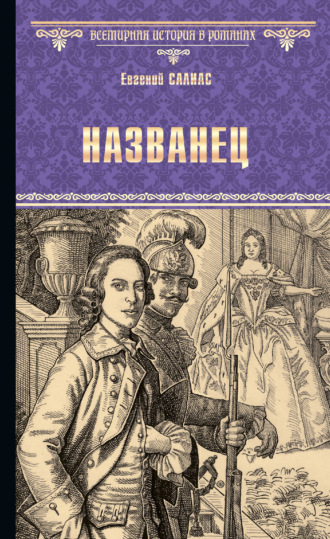
Евгений Салиас де Турнемир
Названец. Камер-юнгфера
XI
Прошло более двух недель, что Адельгейм в первый раз привез к своим старым друзьям найденыша на Новгородской дороге. Теперь его забавляло соперничество двух влюбленных в молодую Тору. Кроме того, его веселило, что найденыш брал верх над чиновником канцелярии герцога. В домике г-жи Кнаус по-прежнему ежедневно бывало много гостей; и было в особенности весело по вечерам. Зиммер, видимо увлеченный девушкой, бывал всякий день, иногда по два раза, и молчал об отъезде.
Адельгейм, пробыв несколько дней в Петербурге, снова выехал, не говоря куда. По нескольким неосторожным словам г-жи Кнаус ее друзья знали, что Адельгейм постоянно командируется самим герцогом в разные пункты России, иногда очень далеко, по самым разнообразным, иногда очень важным делам.
Зиммер, оставшись один в квартире своего нового покровителя, конечно, продолжал и один бывать у Кнаусов. Юная Доротея была с ним не только особенно и исключительно любезна, но положительно неравнодушна к нему. Все знакомые уже заметили ее благорасположение к вновь явившемуся молодому человеку, и никто не мог удивляться этому, так как нельзя было положительно ничьего найти против него. Он был умен, вежлив, скромен и равно любезен со всеми.
Но, однако, всем, даже г-же Кнаус и даже отчасти самой Доротее, казалось в этом Зиммере что-то особенное, что выразить было бы трудно. Какая-то постоянная забота, пожалуй, даже тревога, изредка нападавшая сильная задумчивость и отсюда какая-то загадочность. Как будто молодой человек был под гнетом чего-то и старался скрыть это.
Однажды, когда Доротея заметила ему откровенно, что в нем есть какая-то странность, Зиммер смутился и заявил, что у него есть крайне важное дело в Архангельске, от которого зависит его благосостояние. Он может сделаться богатым или стать совершенно нищим.
Тора передала это матери и брату, а затем и все знакомые узнали это, и загадочная личность была разгадана тотчас и просто.
За все это время Тора очень часто уговаривала Зиммера не ездить в Архангельск, оставаться в Петербурге, но, узнав, что там решится дело первостатейной важности, она спросила, нет ли возможности устроить это дело, послав кого-либо другого вместо себя. Зиммер объяснился с девушкой откровенно, и выяснилось, что если бы у него была протекция в Петербурге или если бы он сам был на службе, то, конечно, дело уладилось бы.
– Так очень просто! – воскликнула Тора. – Вам надо тотчас же поступить на службу! Я могу вам это устроить самым простым образом. Мне стоит только сказать несколько слов моему крестному отцу.
Зиммер ничего не отвечал и казался в нерешительности, принять ли предложение молодой девушки.
Через два дня после этого разговора Тора объявила Зиммеру, чтобы он был непременно у них на другой день ровно в четыре часа, и взяла с него честное слово, что он будет. По лицу и голосу молодой девушки можно было догадаться, что это не простое приглашение на чашку кофе, а нечто важное.
В назначенный час он явился. Тора, веселая, заявила ему, что через несколько минут решится его судьба, ибо она сделала все от себя зависящее, но успех, конечно, зависит от него самого – Зиммера. Он должен понравиться тому господину, который сейчас приедет к ним в гости.
– Если вы ему понравитесь, то все устроится. Я надеюсь, что вы догадываетесь, кому мы вас сейчас представим?
Зиммер, конечно, догадался, но все-таки отвечал, что не знает.
– Сейчас будет здесь крестный отец, господин Шварц. Вы, вероятно, знаете, какое это важное лицо в Петербурге? Он одно из близких лиц к самому герцогу.
Действительно, через четверть часа подъехала к домику большая карета, запряженная красивыми лошадьми, с ливрейными лакеями на запятках.
Войдя в дом, а затем в гостиную, господин Шварц запросто расцеловал Доротею и Карла, а затем, поцеловав ручку вышедшей в гостиную г-жи Кнаус, заговорил с ними, как всегда, по-немецки.
– Зачем ты меня заставила непременно сегодня приехать? – обратился он к крестнице.
– У нас к вам просьба! – весело заявила Тора. – Мы вам сейчас представим молодого человека и будем за него просить…
– Ну, так!.. Вечно одно и то же! Если бы я брал к себе всех, кого ты мне рекомендовала и навязывала, то теперь у меня бы набрался целый полк. И в числе прочих было бы по крайней мере дюжины две никуда не годных, ленивых или непутных молодых людей.
– Нет, этот не таков и вам может понравиться! – сказала г-жа Кнаус. – Только у него есть один недостаток. Не важный, но именно такой, какой вы не любите, – то, что вы людям не прощаете.
– Что такое? – спросил Шварц.
– Он немец, с детства проживший в России, отлично говорящий по-русски.
– И забыл свой родной язык! – выговорил Шварц и сухо, презрительно засмеялся.
– Да, правда!
– Да, сотый раз скажу вам, Frau [12]Амалия, худшей рекомендации для немца быть не может. Вы знаете, как я вас люблю, и давно, и как люблю вот их обоих, – показал он на молодую девушку и ее брата, – а между тем и вам никогда не прощу этого. У Торы и у Карла невозможный, срамной немецкий акцент, и я уверен, что они по-русски думают.
Госпожа Кнаус не поняла, дочь ее тоже, и собирались уже спросить, что хочет сказать г-н Шварц, но Карл предупредил их:
– Это правда, вы правы! Мама думает по-немецки, а я и сестра положительно по-русски.
– Ну вот, это срам, это позор! Если бы все немцы поступали так, живя в других странах, то это было бы равносильно предательству своего отечества. Немцы за границами своего государства, находясь среди иноплеменной нации, должны стараться других обучить своему языку, а не учиться умышленно их языку. Возьмите меня в пример. Я в России с того самого дня, когда государыня вступила на престол, вот уж, стало быть, десять лет приблизительно, а я едва знаю пятьсот русских слов и стараюсь неправильно ими пользоваться. Я говорю по-русски только с теми, кто мне нужен, полезен, а по-немецки ни слова не понимает. А вы хотите мне теперь рекомендовать молодого человека, который, так же как и вы, природный немец и позабыл свой язык.
– Он не позабыл его! – вступилась Тора. – Он очень хорошо говорит, но только с особенным выговором, который… который…
И Тора несколько сконфузилась и запнулась.
– Что же? – спросил Шварц.
– Его выговор таков, что он даже хуже моего…
Шварц усмехнулся, потом покачал головой:
– Ну, милая Тора, выговор немецкий у немца, который хуже твоего выговора, – это, должно быть, что-нибудь ужасное.
– Зато он умный, честный, дельный, трудолюбивый! – воскликнула Тора.
– Вот как! На основании чего же ты одарила его всеми этими качествами? Давно ли вы его знаете?
– Две недели! Даже больше…
Шварц рассмеялся:
– Что же вы хотите? Что я должен для него сделать?
– Он бы желал быть на службе, и именно у вас, чтобы посвятить себя, все свои силы делу, которому вы отдали всего себя.
Шварц присмотрелся к лицу девушки и выговорил:
– Вот уж как стала ты изъясняться! Впрочем, ты это повторяешь мои слова, которые я часто говорю при тебе. Ну, хорошо! Пришли мне своего любимца, я погляжу на него, но скажи мне прежде всю правду. Если солжешь, то все равно твоя мать не солжет и скажет правду. Неужели это опять избранник твоего сердца?
Тора слегка покраснела, хотела что-то ответить, произнесла несколько слов без связи и смолкла.
– Вы отчасти правы, – заговорила г-жа Кнаус, – он ей действительно нравится, но до того, что вы думаете, еще далеко. Впрочем, увидим – и я, и вы. Почем знать, может быть, он в самом деле окажется таким, каким нам кажется, – вполне порядочным человеком.
– Никогда!.. – вскрикнул Шварц. – Повторяю: молодой малый, умный, как вы говорите, отказавшийся от своего языка, сделавшийся почти русским, не может быть порядочным человеком!..
Шварц излагал это настолько резко и стал настолько хмур, что г-жа Кнаус и ее дети как бы вдруг присмирели и притихли. Они знали, что Шварц упрям, а в упрямстве своем как бы прихотлив. Он часто легко соглашался исполнить какую-нибудь довольно мудреную просьбу с их стороны, и часто самое простое дело, которое зависело от одного его слова, он отказывался исполнить наотрез. И никогда нельзя было догадаться, что им руководит, если не простая прихоть вдруг заартачившегося человека.
Тора, собиравшаяся уже сказать Шварцу, что молодой человек у них в доме, в соседней комнате, и что она может представить его тотчас же, теперь не решалась. Она переглядывалась с матерью, как бы предлагая ей взять это объяснение на себя.
Госпожа Кнаус тоже не решалась. Она не боялась Шварца, но не любила его сердить. Среди наступившего молчания Карл звонко рассмеялся и выговорил, обращаясь к Шварцу:
– Смотрите! Поглядите! И мутерхен[13], и Тора испугались вас! Их хитрая затея не удалась! А знаете ли, что они затеяли?
Веселое лицо и смех Карла как бы подействовали на Шварца. Лицо его прояснилось:
– Что именно? Какой заговор?
– Да ведь этот обруселый немец, такой же, как и я, здесь, в доме! Мы хотели его вам сегодня же здесь представить.
Наступило молчание, после которого Шварц выговорил несколько холодно:
– Позовите его! Я только взгляну на него.
Тора, смущаясь или, вернее, волнуясь за судьбу молодого человека, которая должна сейчас решиться, поднялась и вышла в другую комнату. Через несколько мгновений она вернулась снова, а за ней в дверях показался Зиммер и, не двигаясь далее, стал около порога. Он был страшно смущен и стоял как потерянный, как если бы предстал пред судом и ожидал решения не только своей участи, а приговора, жестокого и беспощадного.
Шварц, сидевший в кресле лицом к дверям, в которые вошел молодой человек, пристальным, твердым и зорким взглядом мерил его с головы до пят, раза три морщил брови и наконец проговорил:
– Подойдите ближе! Вот сюда.
Зиммер двинулся и стал шагах в четырех от сановника. Этот задал ему несколько незначащих вопросов. Молодой человек смущенно ответил. Плохой сравнительно выговор удивил Шварца.
– Все, что я могу сказать, – произнес он наконец, – что вы говорите по-немецки, как русский, недавно языку обучившийся. Даже хуже Торы и Карла. Но вообще вы мне нравитесь.
Молодой человек поклонился и, видимо, посмелел.
– Итак, господин фон Зиммер, завтра явитесь ко мне в управление поутру и прикажите о себе доложить. По первому разу, так сказать, с первых слов вы мне кажетесь пригодным вообще на службу государыне-императрице и его светлости. Завтра мы обсудим, куда именно мне вас определить и какое дело вам дать.
И Шварц наклонил голову, а Тора и Карл поднялись с мест, так как Зиммер, очевидно, не догадывался, что он должен снова выйти из гостиной.
– Отлично! Все слава Богу! – весело, почти восторженно проговорила Тора, когда все трое были в другой комнате.
Господин Шварц, оставшись с хозяйкой, объяснил ей, что молодой человек, действительно, довольно привлекательной наружности и, по-видимому, благовоспитанный и порядочный. Он, судя по глазам – несмотря на его смущение, – должен быть энергичным, даже упорным в деле, за которое возьмется.
– Меня удивило то, что он сказал, и, по правде, я впервые слышу подобное, – заговорил Шварц. – Каждый раз, что обруселые немцы жаловались мне, что они забыли несколько свой родной язык вследствие невозможности где-либо в глуши говорить на нем, в особенности бессемейные, мне никогда и на ум не приходило, что они могли делать то же, что, со слов Зиммера, делал он, – читать. Это очень умно! Он, очевидно, умный малый. А теперь у меня есть, по крайней мере, готовый совет всем обруселым немцам из глуши России. Скажу вам по секрету, Frau Амалия, что я этого молодца, по всей вероятности, завтра же определю к себе. И мне почему-то представляется, что он для одного особого дела окажется случайно самым подходящим и надежным из всех, какие у меня есть. Да, он не похож на всех тех шалопаев, которых вы и Тора мне рекомендовали часто.
Госпожа Кнаус весело рассмеялась.
– Ну а крестница сильно увлечена им?
– И да, и нет. Вы знаете, как она непостоянна. Вспомните, как она быстро утешилась, когда вы ее жениха выслали из Петербурга.
– А знаете что, моя дорогая? – воскликнул Шварц. – Ведь этот Зиммер похож на того черномазого.
– Да. Мы все это находим.
– Стало быть, крестнице еще легче в него влюбиться. По старой памяти или за сходство. Что же? Если он окажется таковым, каким мне теперь сдается, – пускай. Все-таки «фон». А этим пренебрегать нельзя.
XII
На другой же день Зиммер явился в управление, где властвовал г-н Шварц. Прошло около двух часов, прежде чем он был вызван в свой черед. Комната, в которой он дожидался, была предназначена для просителей и для всех лиц, являвшихся к Шварцу со своим делом.
В числе прочих дожидался старик лет семидесяти, очевидно, дворянин и, вероятно, не из последних в Петербурге. Он был настолько благообразен и привлекателен своими большими, старчески спокойными глазами, в особенности грустью, будто разлитою во всем лице, что Зиммер невольно присматривался к нему. Если бы не обычай бриться и носить пудреный парик, то, конечно, этот благообразный незнакомец был бы с большой снежно-белой бородой и снежно-белыми волосами.
Когда два человека, вызванные один за другим к Шварцу, образовали пустое пространство между Зиммером и стариком, молодой человек невольно, сам не зная почему, пересел ближе к нему и заговорил с ним. Разумеется, разговор был о пустяках. Касаться каких-либо вопросов, помимо погоды, было опасно, а тем паче в стенах самого управления, где чинилась жестокая расправа, быстрая и беспощадная, надо всеми, кого произвольно причисляли к врагам герцога.
Несмотря на то, что старик ничего особенного не сказал, молодой человек понял, что старик попал в беду. Он является почти поневоле объясниться, но надежды спастись от беды, которая над ним стряслась, конечно, не имеет никакой.
Зиммер, вероятно, тоже понравился старику, потому что он назвался и просил его к себе в гости.
Это был отставной полковник Бурцев. Он прибавил, несколько грустно улыбаясь, что видит теперь очень мало людей, новых знакомых страшно избегает, но что Зиммер ему особенно понравился – Бог весть почему.
Пока они говорили, Шварц продолжал принимать, и наконец в комнате осталось только три человека. Первым из трех был вызван Зиммер. Пройдя небольшую комнату-полукоридорчик, где дежурил чиновник, вызывавший всех по очереди, Зиммер вошел в большую комнату и был сразу несколько удивлен тем, что нашел в ней. Господин Шварц сидел за длинным письменным столом, где лежали кипами бумаги, но что поразило Зиммера – это были шкафы с бесчисленным множеством книг. На столе, на окнах, даже на полу виднелись большие печатные листки. И только благодаря тому, что Зиммер сам был человек грамотный и отчасти просвешенный, он понял, что эти печатные листки – газеты.
Когда он появился в дверях, Шварц выговорил тихо ту же фразу, что и у г-жи Клаус:
– Подойдите ближе! Вот сюда! – И он показал через стол.
Когда Зиммер подошел, он своими маленькими, проницательными глазами долго всматривался в молодого человека, как бы впился в него. Постороннему наблюдателю показалось бы, что молодой человек нравится умному и дальнозоркому человеку, искушенному во всякого рода путаных делах, но вместе с тем его опыт, или дальновидность, или способность читать чужие мысли, рыться глазами в потемках чужой души заставляют его поневоле относиться к этому молодому человеку несколько недоверчиво.
Помолчав несколько времени, Шварц опустил глаза и вымолвил, – конечно, по-немецки:
– Расскажите мне всю свою жизнь с рождения и до сего дня. Где вы родились, где вы жили, что делали? Предупреждаю вас, что впредь я буду изредка задавать вам те же вопросы касательно вашего прошлого, и если в чем-либо, хотя бы в какой мелочи, явится вдруг противоречие, то вы немедленно будете уволены от той должности, в которую я вас теперь определю. Память у меня хорошая, все, что вы скажете теперь, я запомню и даже вкратце запишу. Ну-с, говорите!
Зиммер был готов к этому, предвидел, с чего начнется разговор с Шварцем. Доротея еще вчера вечером предупредила его об этом. Всю ночь, плохо спав, вернее, почти не смыкав глаз, Зиммер приготовил мысленно свое жизнеописание, даже с подробностями, и теперь он бойко, сжато, ясно рассказал все свое прошлое пытливому и хитрому сановнику.
– Ну, я вижу, господин фон Зиммер, что вы дельный молодой человек. Даже не по годам разумный и рассудительный. Тем лучше для меня. Объясните мне теперь подробно, каким образом могли вы забыть язык ваших дедов и прадедов? По вашему ответу я буду, может быть, в состоянии, по крайней мере, вас оправдать. До чего иной выговор может изменить и обезобразить наш прекрасный немецкий язык! – воскликнул Шварц с неподдельным ужасом в голосе. – Ну-с, говорите.
Зиммер заговорил твердо, но изредка делая ошибки в произношении: все-таки волновался.
– Я не виноват в том, что позабыл свой родной язык. Я маленьким мальчиком попал в Россию, и вокруг меня не было ни единого человека, с которым бы я мог говорить по-немецки и от которого мог бы слышать тот же язык. Но так как я любил свой язык, то я сам с собой наедине разговаривал. Если бы не это, то я бы теперь, быть может, не знал даже ни единого слова по-немецки. Когда я стал несколько старше, мне было лет пятнадцать, то я старался доставать себе с величайшим трудом немецкие книги и много читал. Это помогло мне не утерять способности объясняться, но книги не могли мне помочь усвоить и сохранить настоящий немецкий выговор. Позднее, когда мне было уже около двадцати лет…
– Довольно! – перебил Шварц. – То, что вы сказали, делает вам честь. А ваш выговор, по совести, по правде… порядочный…
Разумеется, лицо Зиммера просияло… Он сразу вполне овладел собой и смотрел уже иначе.
– И правду сказать, – продолжал Шварц, – если ваш выговор не хуже выговора Карла, то вы менее виноваты, чем он. Живя в своей семье, он мог бы говорить по-немецки ежедневно, с утра до вечера, а между тем, я знаю, он говорит постоянно по-русски и только со мной да вечером кое с кем объясняется на родном языке. А вы, как оказывается, живя один-одинешенек, могли совершенно свой язык забыть. Ну-с, господин фон Зиммер, близкой родни у вас нет, говорите вы?
– Нет-с! – отозвался молодой человек.
– Сирота? – вымолвил, улыбаясь, Шварц.
– Точно так-с…
– Тогда надо поскорее вас женить! – засмеялся сановник милостиво, но покровительственно, как бы снисходя…
Господин Шварц был, однако, видимо, доволен исповедью молодого человека. Затем он стал еще довольнее, когда узнал, что Зиммер очень порядочно читает и пишет, равно и по-русски, и по-немецки. Только за немецкое правописание Зиммер вполне ручаться не мог, прибавив, однако, что за полгода постарается сделать успехи.
– Ну, писать вам много не придется, – сказал Шварц, – а все, что придется, будет так похоже одно на другое, что можно сказать, что вы в продолжение целого месяца будете на бумаге повторять одни и те же слова.
Затем он объяснил, что он берет Зиммера в управление и отдаст его под начальство человека еще молодого, но опытного дельца и советует Зиммеру с ним поладить и у него уму-разуму поучиться.
– Вы его, вероятно, знаете? – сказал Шварц. – Он постоянно бывает у госпожи Кнаус. Это мой любимец – господин Лакс.
– Так точно! – ответил Зиммер. – Я много раз встречал его у госпожи Кнаус.
И в то же время Зиммер подумал про себя: «Странная судьба! И не будет добра…»
Отпустив Зиммера, Шварц принял другого просителя, а вышедший Зиммер остался глаз на глаз со стариком Бурцевым. Они стали прощаться, и Бурцев вымолвил:
– Итак, не забудьте меня, милости прошу! И не откладывайте, а то Бог весть что еще может быть. Может быть, меня в Петербурге уже и не найдете.
– Вы уезжаете? – спросил Зиммер.
– Нет, но, может быть, меня заставят выехать… Впрочем, может быть, и вы в том же положении. Оттого и удивились?
– Нет! – ответил молодой человек. – Я приехал в Петербург ненадолго, но теперь, очевидно, совсем останусь в нем. Я поступаю на службу.
– Куда?
– А вот именно в это управление!
Старик как будто вздрогнул, выпрямился, гордо закинул голову. Его печальные глаза стали строги, он оглянулся кругом себя и, убедившись, что они остались наедине, произнес:
– В таком случае, молодой человек, не трудитесь навещать меня! Человеку, служащему в этом гнезде кровопийц, я – древнерусский дворянин и христианин – не позволю никогда переступить порог моего дома.
Зиммер был, видимо, поражен. Бурцев снова сел и отвернулся от него, но после недолгой паузы Зиммер быстро двинулся, сел на стул около старика и выговорил:
– Вы человек старый, много видели на свете. Вы не должны судить дела и обстоятельства по тому, как они сдаются на первый взгляд, по первому разу. Я прошу вас, умоляю вас позволить мне быть у вас, хотя бы только один раз и на несколько минут. Я скажу вам, вероятно, кое-что, что заставит вас отнестись ко мне иначе.
Старик молчал и только слегка отрицательно дернул головой.
– Что вам стоит? Умоляю вас позволить мне быть на несколько минут, сказать вам только несколько слов.
– Это излишне! – ответил Бурцев. – Я уже сказал вам и повторяю: молодой человек, служащий тем злодеям, которые решились рубить неповинную голову Артемия Петровича, он сам в числе злодеев, искариотов[14], каинов, кровопийц российских. Сатанинское наваждение на Руси! Если бы я знал ранее, что у вас недаром немецкое имя и что вы наполовину, хотя бы только по отцу, немец, то я бы и не заговорил с вами, не только что стал звать вас к себе. Впрочем, утешьтесь, молодой человек, будущий бироновский прислужник. Утешьтесь! Вам бы и не пришлось долго бывать у меня в гостях, так как я, старый служака великого императора, раненный два раза – и шведом, и туркой, вскоре буду причтен к изменникам и выслан из Петербурга. Вот этими же злодеями! – И он показал на дверь в комнату Шварца.
– Тем паче умоляю вас, – воскликнул вдруг Зиммер, – принять меня! Я пробуду у вас несколько минут и знаю, что вы дозволите мне остаться дольше и бывать часто. Ведь вы не можете знать вперед, что услышите от меня.
– Если хорошее, – отозвался Бурцев угрюмо, – то это будет ложь!
– Нет, вы увидите, поймете, вы почувствуете, что я…
Но Зиммер не успел договорить… В дверях показался принятый Шварцем господин, а за ним чиновник, который попросил старика «пожаловать».
– Видите, – прошептал Бурцев, – какой я важный человек в столице. Меня принимают последним! Меня, обласканного великим, первым императором, немец ставит ниже приказных и подьячих. Какая же польза вам, начинающему службу в столице, заводить знакомство с таким, как я?..
И старик, отвернувшись, двинулся к двери…







