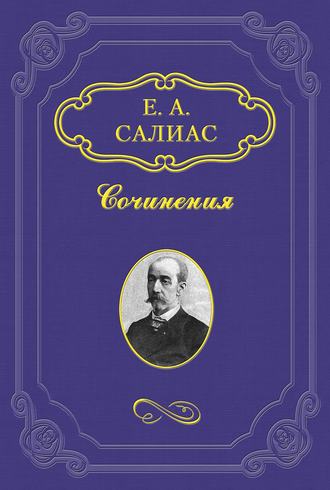
Евгений Салиас де Турнемир
Филозоф
Князь кончил, и наступило молчание. Все были взволнованы. Даже Орлов сидел слегка смущенный, очевидно, хотел заговорить и не знал, что сказать. Наконец он пересилил себя и вымолвил:
– Простите вы меня, князь. Я не знал; я взял с собой Алексея Григорьевича, то есть Галкина, как адъютанта, при мне состоящего. Но, кроме того, признаюсь вам, что хоть я и мог слышать, что вы недолюбливаете его заглазно, но не придавал веры этому. Я не понимаю, как моего Алешу не любить! Недаром же мы друзья. Скажи-ка ты, Алешка! – прибавил граф через стол, – есть ли на свете такие приятели, как мы, братец, с тобой?
Галкин ответил какое-то слово, но никто его не расслышал, настолько он был смущен.
– Знаете ли, князь, – продолжал Орлов, – что мы с Алешей в таких бывали иногда переделках, в такие решета с такими чудесами попадали, в которых истинная дружба сразу скажется. Говорят, надо пуд соли вместе съесть, чтобы друг дружку узнать. А я скажу, надо попасть в иное бедовое положение, в какие нам не раз с Алешей приходилось попадать. Вот в эдакие-то минуты я и узнал его душу, и хоть и много у меня другов-приятелей в Петербурге, а таких кровных друзей, родных по душе, как Алеша Галкин – вот этот самый, – таких у меня других нет. И сколько я его люблю, столько он меня любит. Так вот, князь, эдакого приятеля, я признаюсь, и решился к вам с собой прихватить. Хотел, чтобы филозоф Телепнев с ним познакомился и перестал относиться к нему вражески, никогда в глаза не видавши. А что вы мне преподали некоторого рода урок за мой не совсем деликатный поступок, то вы правильно поступили. Ну, а теперь скажу тоже: «Кто старое вспомянет, тому глаз вон».
И граф, извинившись перед соседкой, протянул через нее руку хозяину. Князь быстро приподнялся, и оба крепко пожали друг другу руки.
XXIV
После обеда все перешли в диванную, и беседа оживилась. Граф Орлов рассказывал анекдоты, острил и смешил всех до слез. Все точно сразу ожили, все были довольны. Беда миновала, путаница распуталась, и все кончилось благополучно. Все были не только веселы, но, казалось, все были счастливы. Только один хозяин, говоривший громче всех, смеявшийся больше всех, изредка вдруг смолкал, и легкая тень появлялась на его лице или же он, едва заметно для других, подавлял в себе глубокий вздох.
В диванную подали десерт и множество всяких наливок. Граф оживился, перепробовав все наливки, и становился все веселее.
– Вот что, хозяин! – вдруг громко выговорил он, шлепнув себя рукой по ноге. – Давайте-ка мы с вами, князь, о деле рассуждать. Ведь тут все свои люди. Ваша семья, да я с другом. Вы сказывали, что мой Алеша вам по душе пришелся, что вы его полюбили в несколько часов так, как если бы знали несколько лет. Так ли это? Правда ли это?
– Вестимо, – отозвался князь, – я же сказал. А от своих слов я не отрекаюсь.
– И правы вы. Малый золотой. И при нем говорю это и без него скажу. Недаром мы с ним первые друзья! Давайте же, родной мой, разные российские обычаи, самые коренные – побоку махнем! Хотите?
– Не понимаю, граф, – отозвался Филозоф, но слегка дрогнувшим голосом, так как тотчас же сообразил, про что говорит Орлов.
– Позволите ли вы? Да, впрочем, должны позволить… Вы филозоф. Вы должны любить и должны желать все эдакие обычаи, светские условия, выдумки людские почаще побоку… Ведь вы филозоф. Ну, вот скажите: если нравится вам Алеша так же, как и мне? Да если вдруг окажется такое диковинное обстоятельство, что мой Алеша любит княжну, а княжна тоже его любит, да и давно влюблены они друг в дружку – что вы на это скажете, князь?
Все присутствующие обмерли от слов Орлова и боязливо уставились на князя, ожидая его ответа.
– Что ж я… – зашептал он. – Я, право, граф… Я слышал, знал это… Сестра говорила. Но я господина Галкина не знал и ничего ответить не мог.
– Понятное дело! Но теперь-то вы его знаете и даже полюбили… Ну и давайте, князь, вот так-то, тут при всех: раз, два, три и готово!
Орлов хлопнул три раза в ладоши.
– Я сват. Раз! Сватаю моего друга. Два! Предлагаю вам его руку и его сердце для вашей княжны. Три! Согласны вы? Я и посаженым буду.
Наступило молчание, и продолжалось одно мгновение. Но это мгновение показалось вечностью всем, трепетно ожидавшим первого слова князя.
– Что ж я, – выговорил Филозоф, разведя руками. – Я ничего… Я, право… Как хотите…
– Да мы-то все хотим! – рассмеялся Орлов громко, и, поднявшись, он обнял сидящего князя.
– Золотой вы мой! Бриллиантовый! Мы все хотим. Вы-то вот захотите.
– Я что ж… Я…
– Ну, давайте расцелуемся, да и согласимся.
– Ей-Богу… Я, право… Я, граф… Я, то есть Алексей Григорьевич, – бормотал князь.
– Я сватаю друга. Я посаженый. Закатим бал, какого в Москве не бывало. Царица на бале будет и в первой паре с князем Телепневым пройдет в полонезе. Ну, филозоф, голубчик, родной, живо говори, согласен?
– Да я, граф!..
– Говори «согласен»!
– Ну, согласен.
Едва только князь успел выговорить это слово, как Орлов обхватил его, приподнял богатырскими руками с кресла и расцеловал несколько раз в обе щеки.
– Ну, образ несите родителю! – обернулся он. – Благословлять сейчас. Ну, княжна, целуйте родителя! И ты, Алексей, целуй! Благодарите!
Юлочка бросилась на шею к отцу и стала горячо целовать его. Но Филозоф только раз чмокнул дочь в щеку как бы бессознательно. Потом точно так же поцеловался он три раза с Галкиным и, совершенно смущенный и растерянный, чувствовал, что все перед ним идет кругом. Какой-то круговорот и неведомо: хороший ли, худой ли. Ведомо одно: если все это и хорошо, но много хуже того, что еще несколько часов тому назад представлялось ему.
Егузинская, сияющая и счастливая, принесла из спальни князя семейный образ. Князь благословил дочь и жениха. Начались целованья и всеобщая радость.
Наконец Орлов заметил, что пред балом надо всем отдохнуть – и хозяину и им – двум гостям.
Князь как будто даже обрадовался предложению. Проводив Орлова до маленькой гостиной на краю дома, где уже успели поставить кровать, князь прошел к себе в горницы и тотчас же вызвал к себе сестру.
Когда Егузинская вошла к нему, он встретил ее, ухмыляясь насмешливо.
– Что, сестрица! Давно мы с вами друг дружку знаем. А вот вы меня не знали… Думали, что я с великими вельможами, как какой-нибудь подьячий или прохвост, лицом в грязь ударю или меня лихорадка трясти начнет. А вот на деле-то не то. Вот я все-таки проучил вашего Орлова! Он мне нравится – душа человек, прелестный, а все-таки я его проучил: не вези ко мне без моего спросу хоть бы даже своих приятелей. Ну, а на его счастье, да и на ваше, потрафилось все совсем особо… Что ж делать, ваша правда, славный малый эта «галка». Ну и Бог с нею, пускай он женится на Юлочке. Все произошло, слава Богу… Но урок-то все-таки я Орлову дал! Каков я был филозоф, таков и остался, таковым и останусь! Ну, вот все, сестрица. Теперь идите да тоже отдохните. Часа через два съезжаться начнут, надо нам быть на ногах.
Егузинская выслушала все, не проронив ни слова. Она пристально смотрела в лицо братца и, казалось, думала: «Кто тебя разберет! Ничего как есть не поймешь. Зачем тебе было учить? Ну, спасибо, на доброго человека налетел».
Егузинская прошла в горницы к племяннице, где был и князь с женой. Юлочка безумствовала: прыгала, кружилась, кидалась ко всем на шею и всех целовала.
– Чудодей – твой батюшка-родитель, – сказала Егузинская молодому князю.
– Нет, тетушка, – отозвался Егор, – я только сегодня понял всем сердцем, какой батюшка человек. Ему хоть с королями разными и с императорами водиться. Как это у него все выходит. Меня, тетушка, раз двадцать в жар и в озноб швыряло за весь-то день. А вон оно, что вышло-то! По правде-то сказать, тетушка, ничего даже не разберешь.
– То-то, голубчик мой, и мне так-то сдается, что ничего не разберешь. Ну, да слава Господу, кончилось-то не бедой.
XXV
Часа через три весь бутырский дом был переполнен сплошною блестящею толпой. Действительно, вся Москва явилась в великолепный освещенный дом князя. Вокруг усадьбы в сторону Москвы стояло столпом целое зарево: тысяча бочек смоляных пылала. Князь будто предвидел и предсказал: весь чад и дым тянуло ветром на Москву.
Действительно, в эту ночь Москва могла задохнуться от пирования князя-филозофа, и если не очумела от копоти и смрада горящей смолы, то ей пришлось очуметь наутро от того, что рассказывали про поведение князя с графом Орловым.
В восемь часов, при всех гостях, в большой зале, князь Телепнев, взволнованный и возбужденный, взял за руку дочь и объявил, что она помолвлена и невеста Алексея Григорьевича Галкина.
Начались поздравления. Затем, когда суетня стихла, по данному знаку оркестр грянул полонез, и бесконечная вереница пар двинулась тихо по зале. В первой паре шел граф Орлов с генеральшей Егузинской, а за ними князь с дочерью.
Сделав круг, князь подозвал стоявшего у стены жениха и выговорил:
– Ну, получай из рук в руки и веди дальше, – и по зале, да и по жизненному пути.
И князь, поставив на свое место богатыря-офицера, положил ему в руку руку дочери, а сам отошел в сторону. И пред его глазами в ярко освещенной зале стал скользить большущий змей. Это была вереница пар. Но вдруг князю показалось, что это не гости, а что это – действительно большущий змей, который извивается по зале и вот сейчас обхватит его, задушит, ужалит…
– Офицерша Галкина! – повторял он про себя. – По собственной и несказанной глупости! Бывали дураки на свете, но таких дураков, как ты, Аникита, – стоял свет и будет стоять, а не было! Ах, дурак, дурак! Нет, вот дурак-то! И никого не обманешь. Как ни ломайся, а наутро всей Москве будет все понятно. И я знаю, как вся Москва тоже знает, что никогда Галкин его другом не был. Будь правда – было бы и прежде известно. Все было подлажено меня обморочить. И пустили мороку! И одурачили на всю жизнь. Теперь одно тебе… На Калужку беги! Запирайся и никогда уже больше людям не показывайся.
Но пока князь думал, раздумывал и все бушевало в нем, в его опущенную голову стучало все сильнее. Наконец зал из яркого розоватого стал темно-красным. Змей большущий тоже стал пунцовый и вместе с тем – зацепил он, что ли, князя, – но вдруг его шибко ударило чем-то по голове.
В полусознательном состоянии князь все-таки понял, что он уже лежит на паркете, что ему нехорошо, что вокруг него много народу. И все нагибаются, хватают его за голову, за руки. А ближе всех лицо сына и дочери, а за ними лицо графа Орлова.
XXVI
Князь-филозоф опасно заболел. С ним случилось именно то, что в семье смутно ожидали за последние годы. При его темпераменте и сидячей жизни он именно должен был опасаться удара.
Большинство москвичей дворян умирало так. Избыток здоровья, горячий темперамент и спокойная, беззаботная жизнь, при излишестве в пище, питье и сне, приводили всегда к одинаковому концу.
Если бы теперь в жизни князя не случилось никакого чрезвычайного происшествия, то он, быть может, все-таки раньше или позже подвергся бы удару. Чрезвычайный случай со сватовством только ускорил появление того, что всегда грозило.
Князь лежал в постели в полусознательном состоянии: у него отнялась правая рука, отчасти нога и слегка перекосило лицо. Однако доктора надеялись. Главный московский доктор-немец, с прозвищем Штадтфизикус, навещал больного всякий день и смело утверждал, что, при натуре князя, он может еще оправиться.
Князь Егор с женой и Егузинская переехали в бутырский дом и были неотлучно при больном. Вся Москва только и говорила, что о случае с князем-филозофом. Мнения разделились. Одни утверждали – и, конечно, меньшинство, – что проделка графа Орлова со старым князем – поступок совсем негодный, оскорбительный для всего дворянства, что эдак шутить нельзя. Если может кто так шутить, так разве только «господа» Орловы, которым все трын-трава и море по колено. В особенности негодовали отцы семейств.
Большинство, однако, было совершенно противоположного мнения. Оно утверждало, что никто тут не виноват или сам князь виноват. Филозоф опростоволосился и, вдобавок, болезнью своею выдал сам себя. Все отлично поняли, что удар, приключившийся с князем, был прямым последствием оскорбленного самолюбия и обиды от той ловушки, в которую князь попал.
Не изображай он из себя филозофа, знайся с людьми, действуй проще – никогда бы ничего подобного не приключилось. Бывай он в гостях, увидел бы он графа Орлова где-нибудь на вечере, и обман, или «финт», стал бы невозможен.
Действительно, выходило так, что князь был сам кругом виноват. Его не обманывали – он сам себя обманул. Правда, его немножко подвели, но не какою-либо особенною адскою хитростью. Все случилось чрезвычайно просто. Если же вышло особенно удачно, то по не зависящим от Орлова и Галкина обстоятельствам.
Конечно, распустив слух о намерении жениться, граф похитрил немножко, но все-таки в самой проделке с князем прямого обмана не было. Затея могла и должна была не удаться, а случайно удалась вполне. И удалась как-то особенно просто и скоро. Разумеется, ожидать следовало, что князь-филозоф настолько самолюбив, что все скроет в себе и виду не покажет, что разыграл не филозофа, а простофилю. Но природа взяла свое, и приключился удар от нравственного потрясения.
– Все нутро перевернулось. Кондрашка и хватил! – объяснили москвичи.
Вся семья князя: сын, дочь и сестрица, хотя и были смущены, но, конечно, не могли считать себя виновными. Они не участвовали в проделке Орлова. Даже сам Галкин и тот считал себя виновным наполовину. Быть может, лишь одному Орлову было всего неприятнее все приключившееся. Он ожидал нажить в князе временного врага и затем умилостивить его, но никак не ожидал, что вдруг запахнет смертью.
С первого же дня болезни князя Орлов всякий день присылал кого-либо из своих адъютантов или секретарей узнать об его положении. К общему удовольствию, чрез несколько дней больному было уже немного лучше. Доктора надеялись более, чем когда-либо, на выздоровление. Наконец, чрез дней десять, князь уже мог слегка двигать рукой и ногой. Семья вздохнула свободнее.
Но теперь представлялось вопросом, как поступит князь оправившись.
Княжна Юлия и Галкин боялись, что свадьба расстроится. Князь, вероятно, хотел все скрыть ото всех и поэтому согласился на свадьбу. А теперь, когда все огласилось, когда всякому в Москве известно, что он стал жертвой обмана, что он настолько оскорблен, что даже заболел, легко может случиться, что он пойдет на попятный двор.
В конце второй недели болезни князь начал быстро оправляться. Штадтфизикус перестал уже ездить в Бутырки и снова говорил везде, что русские натуры составляют исключение, а в Москве попадаются среди дворянства такие люди, которые созданы на какой-то особый лад, умеют умирать и воскресать. И будучи сам немцем, Штадтфизикус переделывал русскую пословицу и говорил: «Что немцу на умирание, то русскому на проживание».
В тот день, когда князь сошел с постели, уже изрядно двигаясь, и при помощи людей и костыля доковылял до кресла, чтобы посидеть, в бутырский дом приехал посланец Орлова. Он имел поручение спросить, угодно ли князю Телепневу принять графа Орлова, и если угодно, то какое он назначит время.
Князь велел отвечать, что готов принять графа когда угодно.
Что было в душе Филозофа, когда он первый раз очнулся в своей кровати, и что было теперь, никто не знал. Князь Аникита не обмолвился ни единым словом. Он знал отлично, что Москва поняла смысл или причину его болезни, и невольно сознавал, что разыграл совершенно глупую роль. У него хватило силы воли все скрыть. Разум послушался, но тело не послушалось. Нравственный удар самолюбию был настолько силен, что повлек за собою другой, физический. Продолжать теперь притворяться, уверять всех, что он рад и счастлив, что болезнь приключилась независимо от обстоятельств, было еще глупее, ибо никого не надуешь!
– Что же делать? – спрашивал себя князь. – Отмстить и не соглашаться на брак или просто примириться, признаться, что подвели, поддели, и отнестись к этому добродушно? Ведь беды или несчастия никакого не будет… Напротив, будет счастье для дочери…
Раздумывая о том, как отнестись к происшествию, выздоравливающий князь не пришел ни к какому решению. Иногда приходили минуты озлобления и раздражительности, а затем сменялись минутами спокойствия и примирения… или же, вернее, жизненной усталости и равнодушия ко всему на свете. Семья окончательно не знала и не могла предугадать, чем все разрешится. Она, разумеется, ожидала с нетерпением, когда князь совсем поправится. Орлов обещался им всем быть у князя при первой возможности и просить у него прощения. А пока о женихе никто князю не должен был говорить ни даже поминать.
И вот появился посланец от графа, а затем, однажды вечером, на двор бутырского дома въехала хорошо известная в городе карета. Когда князю доложили о прибытии именитого гостя, он заволновался и выговорил глухо:
– Проси. Скажи, сожалею, сам встретить не могу…
Затем князь выслал родных из комнаты, остался один и стал ожидать.
Чрез несколько мгновений, в блестящем мундире и регалиях, бодрою походкой, с добродушно улыбающимся лицом и ясным взглядом, вошел к князю в спальню тот же богатырь, которого он так недавно продержал несколько часов на стуле около передней. Граф поздоровался с хозяином, расцеловался, уселся около него и, положив руку ему на колено, стал с участием расспрашивать, как он себя чувствует.
XXVII
Чрезвычайная, влияющая на всякого простота в обращении, непринужденное добродушие и в лице, и в голосе, вся манера держаться и говорить – тотчас неотразимо подействовали на князя. Он сразу стих, примирился… Вдруг показалось ему ясно, что насколько все естественно в этом человеке, настолько в нем, князе, якобы филозофе, все фальшиво. Этот живет, чувствует и мыслит просто: что он есть, то он и есть! А он, князь, что-то такое выдуманное, деланное, взаймы взятое. Что он такое всю жизнь из себя корчил и представлял?.. Он комедиантствовал! Играл со всеми и доигрался до ловушки.
Положим, что в жизни этого молодого богатыря и красавца была только одна удача. Ему бабушка ворожила. А в жизни князя с первого шага, с приезда на службу, была только неудача за неудачей. Он был обижен судьбой, которая не дала ему ровно ничего изо всего, что ему желалось.
– Ну, давай, князь, говорить по душе. Все на ладонь! Слышь-ка? – заговорил наконец Орлов, придвигаясь еще ближе к креслу больного и кротко глядя ему в лицо. – Я хоть и виноват, но все ж таки не совсем. Я ведь не мошенничал. А коли смошенничал, то самую малую толику. Я только скромничал да якобы в конфуз обретался. Знаю, что теперь вы меня возненавидели, на меня обиделись и так даже глубоко оскорбились, что захворали… Все это я разумею. И очень мне больно все и стыдно… В моем положении не след было никакие колена отмачивать. Да уж очень жаль мне было доброго молодца. Но все ж таки, друг, ведь особой напасти мы не затевали тут никакой. Ежели немножко в Москве на твой счет злые языки развязалися, так плюнь на них. Будь вот теперь настоящим филозофом!
Князь хотел что-то ответить, но не знал, что сказать.
– Скажите мне: очень вы на меня озлобились, по правде? – произнес Орлов. – По сущей по правде!
– По сущей по правде, граф, был я тогда сильно обижен. А теперь, после того, что пожаловал ко мне и свистнул меня Кондратий Иваныч, как-то иначе сдается все… Ведь Кондрашка – не свой брат! Ведь я чуть не помер! Вот оно теперь все эдакое… людское или житейское представляется в другом виде… в грошовом, что ль…
– Ну, вот, родной мой! – воскликнул Орлов. – Вот истинно! Эдак-то вот филозофы и рассуждают.
И при этом Орлов положил снова руку на колено хозяина и прибавил:
– Вот теперь вы – истинный филозоф. Да! Эта людская суета кажет важным, когда человек глупостями занят. А в случае большого горя, большой болезни сейчас все это обернется нам пустяками и очам нашего разума кажет лишь маревом. Итак, князь, дружище, прежде всего мы решим первое дело. Вы на меня не злобитесь? Я тебе, князь, не стал враг на всю жизнь, сказывай по совести.
Князь взглянул в лицо Орлова, невольно улыбнулся и произнес мягче, чем когда-либо в своей жизни:
– Нету… Какой враг! Где же!.. На вас поглядеть, нешто можно на вас злобствовать? Недаром вас любят все…
– Стало быть, простили вы меня?
– Что об этом, граф… Бросим…
– Ну, и слава Богу! Первый вопрос решен. Мы, стало, с вами на всю жизнь други-приятели. Каждый раз, что я приеду в Москву, то сейчас же к первому к вам. Я у вас виноватый и прощенный и, стало быть, я у вас в долгу. Теперь второе дело. Подлинно ли вам Галкин так отвратен? И чем? Опять-таки говори, князь, по правде, по совести, без утайки.
Князь слегка двинул плечами и вымолвил:
– Нет, что же… Он малый не глупый… дворянин… Дочь в него врезалась. Вот по имени-то фамильному…
– Что же? – перебил Орлов. – Не понимаю…
– Что? Галка… Сами знаете.
– Господь с вами! – воскликнул Орлов. – Вот где филозофья-то нужна! Такие ли прозвища на свете есть! И как не стыдно не только филозофу, а даже простому разумному человеку на эдакое обстоятельство внимание обращать. Чем же телепень лучше? Ну, положим, птица орел лучше птицы галки… – рассмеялся граф. – А уж телепень, право, не лучше галки.
И смех Орлова был настолько заразителен, что и князь начал смеяться.
– Ну, теперь решим третье дело. Веришь ли ты, князь, что я отношусь к Галкину сердечно, что вся наша затея – не просто для меня времяпрепровождение? Веришь ли ты, князь, что я Галкина не оставлю и судьбой его займусь, как если б он был моим родственником?
– Не знаю, – отозвался князь. – Полагаю.
– Нет, не полагайте, а будьте уверены. Он мне по сердцу пришелся еще под Москвой. Ведь вы не знаете, как мы с ним повстречались, как он по моим холопам из пистолета палил. Это я все когда-нибудь вам расскажу… Так вот теперь, стало быть, я должен прибавить еще то, чего вы не знаете. Ваш будущий зять, офицер Галкин, если Бог даст мне и ему жизни и здоровья, годков через десять, а то и раньше, будет почище иных прочих, которых вы делали в женихи княжне. За это я вам отвечаю моим орловским словом. Проживите вы еще на свете десяток лет, и сами мне скажете, что довольны судьбой зятя и своей дочери. Все житейское в руках царицы нашей, а я у нее не последний человек. Ну, князь, так как же? Как порешишь?
– Да что же решать? Все решено.
– И перемены не будет?
– Нет, как можно…
– Все можно, князь. Поди, во время болезни не раз вам про нас думалось: вот дай срок, выздоровлю, я вам себя покажу!
И Орлов снова рассмеялся.
– Что? Разве не думалось так? Не собирались вы, лежа в постели, начать по выздоровлении калачики загибать – и мне, и Галкину, и даже дочери родной?
Смех Орлова настолько действовал заразительно на князя, что он не только развеселился, но даже чувствовал себя как-то лучше и бодрее. И вдруг князю-филозофу пришла мысль не только тотчас же согласиться на все и успокоить всех, но даже сделать что-нибудь большее.
– Не знаете ли, граф, где теперь Галкин? – вдруг спросил он. – Я бы желал за ним дослать!
– Дослать за ним недалеко. Я его привез с собою, и он сидит в зале с вашим сыном.
– Ну, вот и прекрасное дело! Я встать не могу… Уж вы потревожьтесь – позовите всех сюда, а в том числе и нареченного.
Чрез минуту появились в горнице все: дочь, сын, Егузинская, а за ними и богатырь нумер второй, но в том же простом гвардейском мундире. Все были взволнованы, но с радостными лицами.
– Юла, иди сюда, – ласково произнес князь, улыбаясь. – Ну, и ты тоже, самозванец, поди! – обернулся он к Галкину.
Когда молодые люди приблизились к его креслу, князь поглядел на них: снова улыбнулся и, обратись к графу, выговорил:
– А ведь и впрямь он ничего! А к его прозвищу я привыкну. Ведь привык же я к своему. Ну, дети, вторично даю я вам мое согласие на брак, но уже безо всякого остервенения. А уж как я тогда был остервенившись! А уж пуще всего вот на его сиятельство. Помнится, разнес бы я не то что свой дом, а и всю Москву бы испепелил. Ну, когда же ваша свадьба? Приданое у нас давно заготовлено, стало быть, все дело за попом, а меня до церкви довезут. Вы вокруг аналоя походите, а я посижу да погляжу.
Чрез полчаса со двора князя Телепнева выехала карета Орлова, увозя шутника-вельможу, но привезенный им офицер остался в доме, и все его поздравляли. Весь дом бутырский заходил ходуном.
Не только семья, но и люди, заглянувшие в горницу барина-князя, удивлялись перемене, которая с ним случилась. Князь смотрел не только не сурово, но смотрел так, как никогда не бывало прежде. Он глядел «по-орловски» – заразительно добродушно. А то, что ему теперь думалось, – были думы истинного, а не поддельного филозофа.







