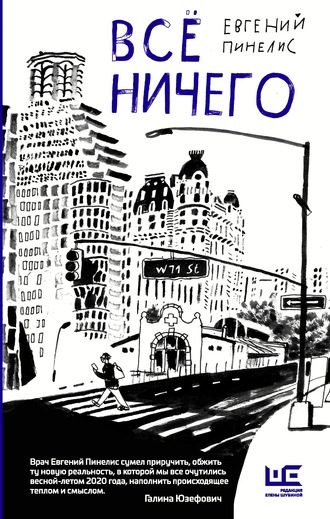
Евгений Пинелис
Всё ничего
Нью-Йорк, Нью-Йорк
Этот город странен, этот город непрост. О Нью-Йорке написано огромное количество книг и снято не меньше фильмов, и я вряд ли скажу что-то новое, но этот город действительно самый прекрасный на свете. Не проходит и недели, чтобы я не хотел отсюда уехать, но, оказавшись в отпуске, страшно по нему скучаю. Первый раз я попал в Нью-Йорк дней через пять после приезда в Америку. Я еще не понимал до конца, в какой я стране, а мы с братом и племянником вдруг поехали помогать родственнику с переездом. Мы не нанимали грузчиков, таскали коробки и мебель сами. Переезд был поводом классно провести время. Помню, как мы затаскивали фортепьяно в грузовик, не удержали, и оно съехало на асфальт. На ножке появилась уродливая царапина, хозяин хмурился. Мы переезжали с пересечения 101-й и Бродвея на Верхний Вест-Сайд. Долго искали парковку, брат крутился и ругался на многочисленные непонятные знаки. Даже разоренная переездом квартира внушала уважение. Высоченные потолки, паркет, странные коридоры, большие окна – всё это в старом доме довоенной постройки (то есть до Первой мировой). Именно такой дом казался нам идеальным для жилья. Спустя десять лет мы с женой перебрались в Нью-Йорк. Нам пришлось пять раз переезжать, пока мы не нашли дом своей мечты.

Погрузившись, поехали вверх по Бродвею. Районы менялись, мы миновали кварталы вокруг Колумбийского университета с массивными зданиями факультетов и вычурными, той же довоенной постройки, домами профессоров. На 125-й улице мы свернули на шоссе, и Гарлема в этот раз я толком не увидел. Приехали мы в район 200-х улиц, на улицу Дайкман. Я назвал ее «Дикман», но потом научился выговаривать правильно. Оказалось, что Вашингтон-Хайтс, центром которого была Дайкман, – русский район. Точнее, он был интеллигентской альтернативой мещанско-бандитскому Брайтону до прихода волны доминиканцев и гаитян. Эта этническая картина города, меняющая его очертания, меня до сих пор восхищает. Латиноамериканские, индийские, итальянские, китайские, русские, еврейские, хипстерские (хоть это и не этнос) районы придают городу бесконечную притягательность.
Вашингтон-Хайтс тогда уже был отчетливо доминиканским, гаитянским, пуэрториканским, но и русские там остались. Среди них непостижимым образом оказался лучший друг моего детства – Женька. У каких-то знакомых нашелся телефон его мамы, я оставил ей сообщение, и вскоре Женька позвонил. Тем же вечером мы встретились.
Мы не виделись семь лет. Ребенок из еврейской семьи композитора и физика, с которым мы учились пить пиво в Доме творчества композиторов, невероятно изменился. Женька всегда был высокий; теперь, двухметровый, он читал рэп в разных клубах, учился в колледже, играл в баскетбол на асфальтированных площадках с местными братками. Он казался ненастоящим, каким-то киношным. Мы курили траву с его друзьями. Ради меня они говорили на ломаном русском. В час ночи, расставшись с ними, я пошел в бодегу, небольшой магазинчик на углу дома. Мне сказали, что в этом месте можно круглосуточно купить бутерброд. Это был самый вкусный пятидолларовый бутерброд в моей жизни. С Женькой я потом виделся несколько раз, побывал на его концерте, первый раз услышав настоящий рэп-батл на мрачной улице с не менее огромным, чем Женька, черным парнем. Потом мой друг почему-то уехал на Аляску и позже вернулся в Москву.
Нью-Йорк стал главным для меня городом. Я тогда не знал о нем ничего. Я смотрел о нем много фильмов, читал рассказы О. Генри и романы Драйзера и Дос Пассоса, но это было совсем не то. Утром, позавтракав остатками бутерброда из бодеги, я доехал на метро до Таймс-сквер, где выпил «Лонг-Айленд айс ти» в Hard Rock Cafe, сидя под гитарой с автографом Джимми Пейджа. Сейчас это кажется смешным, Таймс-сквер я обхожу стороной, а когда о ней говорят, со снобским видом фыркаю: это, мол, туристический притон. Но тогда это было невероятным опытом. В «Лонг-Айленде айс ти» было явно больше кока-колы, чем нужно, но я был на вершине блаженства. Потом я пошел по Бродвею до самого конца, заблудился в Нижнем Ист-Сайде, купил на развале «Имя розы» за немыслимые для потрепанной старой книжки пять долларов. Цену наверняка накрутили доллара на три, видя мой широко разинутый туристический рот, а читать «Имя розы» на английском без каких-либо пояснений обильной латыни оказалось совсем не так приятно, как мне представлялось. Но мне в тот момент невозможно было чем-то испортить настроение. Книжка эта, так и не прочитанная, стоит до сих пор на полке. Через несколько лет, уже пройдя краш-курс истории Нью-Йорка, я узнал, чего тогда лишился. Мне было невдомек, что всё еще открыт легендарный клуб CBGB, колыбель панк-рока (закрылся он только в 2005-м). А ведь благодаря тому, что мы были соседями по подъезду с панком Русланом, солистом группы «Пурген», я обожал Ричарда Хелла, Патти Смит, Ramones, Television и Blondie.
Нью-Йорк стал местом постоянного притяжения. Я ездил туда один и с будущей женой. Оказалось, что в городе полно ее одноклассников и родственников. Мы ели фаршированную рыбу на Брайтон-Бич с ташкентскими родственниками и суши со сливовым вином на Верхнем Ист-Сайде с друзьями. Я не раз проходил весь Бродвей от Вашингтон-Хайтс до Уолл-стрит. В начале 2000-х это уже было сравнительно безопасно, а в конце прошлого века такая прогулка могла закончиться плачевно для кошелька. Или жизни. Даже в Атлантическом океане я побывал в первый раз в Нью-Йорке, окунувшись в воды залива с Брайтон-Бич.

Единственное, что я сильно невзлюбил, – это слащавую песню Фрэнка Синатры, давшую название этой главе. Возможно, я несправедлив, но поделать ничего с собой не могу. Дело вот в чем. Как-то раз мы ездили с друзьями из Москвы по Америке. Когда мы приблизились к Нью-Йорку, девушка из нашей компании заявила, что в город надо въезжать только под «New York, New York». И кто бы мог ее порицать за это желание. Сказано – сделано. Включили Синатру – и тут же, как по волшебству, уткнулись в пробку, спонтанно возникшую возле тоннеля, ведущего из Нью-Джерси в город. К концу песни, кажется, двинулись, включили еще раз – и пробка возникла снова! Мы прослушали эту песню раз семь, любуясь пейзажем из бесконечной пробки, заправок, автосервисом и совсем не впечатляющими высотками Джерси-Сити и Ньюпорта. В восьмой раз мы решили включить «New York, New York» только после того, как въедем в тоннель, но и там это привело к пробке. Город мы увидели только девять песен Синатры спустя. Мечта девушки сбылась, но послевкусие осталось.
2012
У меня есть работа! И не просто работа, а в больнице Нью-Йоркского университета. Пристроила меня туда директор нашего феллоушипа[44], сменившая на этом посту добряка Анандарангама. У всех нас, будущих специалистов, сложились с ней напряженные отношения, но в обаянии ей было не отказать. А ее матросский юмор и постоянные «факи» мирили меня со многими ее недостатками. Встретившийся ей случайно на конференции бывший наставник посетовал, что никак не может найти нового помощника в свою процветающую частную практику. Она тут же прорекламировала ему меня и прямо на месте выбила собеседование. Расплевавшись через два года и со Стю (так звали наставника), и с Нью-Йоркским университетом, и с частными практиками, я так и не смог определить, было ли это услугой с ее стороны.
Но тогда я был в восторге. Одна из лучших больниц страны, где умеют делать всё, а пробуют делать еще больше. На собеседовании я познакомился с будущим начальником Стю и его партнером Марком. Последний член этого триумвирата, Дэвид, в это время был в больнице, спасая на благо практики пациентов в реанимации. Я не был чужд тщеславия и на встречу со Стю шел, испытывая пиетет перед громким именем. Перед собеседованием пробежался по спискам публикаций потенциальных работодателей и был весьма впечатлен динозаврового размера следом Стю в анналах пульмонологии. Стю, сухонький мужчина лет шестидесяти пяти с удивительной привычкой заламывать руки, которую до встречи с ним я считал чертой исключительно еврейских бабушек, сетовал, что не запатентовал в свое время неинвазивную вентиляцию. Ругался он и на Германского с Пудлаком, давших крайне редкой легочной болезни свои имена и бессовестно не включивших его. Он много упоминал жуткие расходы, которые требуются для успешной практики, и жаловался на высокую арендную плату за помещения для нее. Позже я узнал, что помещение в высотном многоквартирном доме принадлежало его девяностолетнему бодрому папе. Как и сам дом и еще несколько многоквартирных домов в этом районе. Слушая разглагольствования Стю и с интересом наблюдая траекторию заламываемых рук, я не мог отделаться от ощущения, что на высокую зарплату рассчитывать не стоит, но очарование старого Нью-Йорка и самого Стю отрицать было нельзя.
Марк оказался крупным громким бородатым болтуном. Случайно выяснилось, что наши корни – из соседних местечек. Марк говорил. И говорил. А потом говорил еще. Он рассказал о практике, о больнице, о холодной войне, которую вел против другой практики. Рассказал об их подлостях и о своем благородстве. О происках врагов и о вероломстве мнимых друзей. Всё это было удивительно. Нельзя сказать, что я никогда не сталкивался с частными практиками. В ньюаркской больнице существовало несколько этнических группировок. Была нигерийская, индийская, пакистанская. Получив пациента одного из врачей группировки, приходилось просить о консультации по надуманному поводу всех остальных членов. Анемия, присутствующая у ста процентов пациентов в реанимации, вела к вызову гематолога и гастроэнтеролога. Больше всего я любил нигерийскую группировку. Мы прозвали их «Дримтим». Пятеро мужчин разных размеров и медицинских специальностей, собравшись на консилиум вокруг компьютера с данными пациентов, выглядели как баскетбольная команда во время тайм-аута. Марк же рассказывал о куда более сложной и запутанной политике и взаимоотношениях. Тем не менее мне всё это нравилось.
За полтора часа разговора с Марком я сказал слов двадцать и издал много сотен восхищенных междометий. После беседы меня отправили на экскурсию в больницу, которая находилась в двух кварталах. Там мы встретились с Дэвидом. Дэвид был моего возраста или немного постарше. Кучерявый, близорукий, носатый, он еще и немного картавил.
– Пойдем пить пиво, – предложил он.
Я тут же понял, что мы подружимся. Дэвид сразу подтвердил мои догадки: работать придется много, а платить будут мало. Но работа интересная, со Стю надо держать ухо востро, а Марк – отличный мужик и сердце у него в нужном месте.
Он рассказал смешную историю. Как и меня, Дэвида приняли на работу в июле сразу после окончания феллоушип. В начале сентября Стю, заламывая руки, сказал Дэвиду, что понимает, насколько свят неотвратимо приближающийся праздник, но все не могут получить выходной в один день, иначе практика вылетит в трубу. Дэвид не мог понять, о чем речь. День Труда – первый понедельник сентября – уже прошел, к тому же Дэвид не считал его таким уж святым, а до Колумбова дня было еще довольно далеко. Он сказал, что не планировал ничего праздновать до Дня благодарения в ноябре.
– Но как же Йом Кипур? – поразились Марк и Стю.
Так они и выяснили, что Дэвид не еврей, а помесь шотландцев, шведов и англичан, выкинутых на границу Теннеси и Западной Вирджинии. Это было редкостью для практики. Я посмеялся и осторожно осведомился о Марке.
– Он любит поговорить, правда? – спросил я.
– Я довольно давно перестал его слушать. Ты тоже научишься, – сказал Дэвид.
Через три месяца я уже сидел в небольшой комнатушке посреди блока интенсивной терапии и печатал дневники пациентов, а Марк что-то рассказывал. Не знаю о чем. Возможно, об арабо-израильском конфликте. Или о гнусности бойцов другой практики, которые уводили консультации из-под носа. А может, вспоминал свой недавний отпуск.
– Твоя жена, наверное, много разговаривает, – вдруг осведомился он. Я к тому времени уже научился включаться, услышав смену его интонаций.
– С чего ты это взял? – удивился я.
– Ты очень хорошо умеешь отключаться.
Я вежливо кивнул, не сказав ему, что болтун в нашей семье как раз я.
Июль – октябрь 2012
Это было очень приятное и интересное время. Я много работал, начинал в шесть тридцать утра, приезжая на велосипеде и лавируя между машинами в пробках. В больнице работало много удивительных и порой гротескных личностей. Многих из них звали так же Марк или Дэвид, что вносило путаницу в и без того немыслимый хаос. Марк, мой старший партнер, специализировался на лечении ортодоксальных евреев, одной из главных категорий пациентов этого респектабельного медучреждения. В этом была логика: Марк был одним из немногих, кто мог соперничать с ними в риторике. Но даже он нередко выходил из себя. Как-то раз, к своему восторгу, я услышал, как Марк кричал по телефону на раввина, который советовал ему продолжать давать антибиотики пациенту из своей общины. Ну, буквально еще пару дней.
– Ребе, я же не советую вам, что кошерно, а что нет. А вы не советуйте мне, когда начинать и заканчивать антибиотики! – орал свекольный от раздражения Марк.
В общем, он был неподражаем.
Марк составлял наше расписание. Именно его волевым решением я и начал свою карьеру в реанимации, сразу погрузившись в лечение десятка тяжелобольных пациентов.
Ребе и Броха
Он стал первым моим пациентом, воспарившим из подвала приемного отделения наверх в интенсивную терапию. Остальные пациенты перешли по наследству от Марка. В больнице я к тому времени проработал часов шесть, искал среди коллег попутчиков до своего офиса, кофемашины или туалета и совершенно не понимал, что меня ждет.
Когда он прибыл в блок интенсивной терапии, я обратил внимание на цианоз. Уровень насыщения кислородом его крови не определялся. Давления тоже было скорее меньше, чем больше. Зато частоты дыхательных движений и сердечных сокращений было хоть отбавляй. Рядом с бессильно поникшей головой лежала ермолка. Я начал осмотр нетипичным для обычного врача, но весьма естественным для интенсивной терапии образом – с интубации и постановки подключички[45]. После этих жизнеспасающих мероприятий я, выкинув все острые предметы, оставшиеся от установки венозного катетера, снял с него многочисленные стерильные покрывала для инвазивных процедур и, уважительно вернув кипу на место, пригляделся к моему первому пациенту повнимательней. Он был стар. Я бы даже сказал, невероятно стар. Я не помнил, чтобы в Ньюарке или Балтиморе мне попадались настолько пожилые на вид люди. Его жена материализовалась еще до окончания процедур и сообщила, что пациент – очень важный и известный раввин. Я сразу почувствовал себя уверенней, всё-таки высшие силы на нашей стороне, и спросил, как ее зовут. Узнав, что зовут ее Броха – именем, нежно любимым мной со времен зачитанного до дыр «Мальчика Мотла», – я проникся еще большей симпатией к этому семейству.
Дальнейший сбор анамнеза и осмотр выявили еще несколько особенностей. Например, огромную грыжу, которую остряки-резиденты, хорошо с Ребе знакомые по предыдущим визитам, давно уже прозвали Мини-ми. Порывшись в предыдущих записях и результатах КТ, я выяснил, что в этой грыже происходит солидная часть физиологических процессов органов брюшной полости, и испытал к ней серьезное уважение.
Высшие силы оправдали мои на них надежды, антибиотики и вазопрессоры сработали, и через несколько дней Ребе вернулся из медикаментозной и септической комы и задышал сам. Тут и выяснилось, что он абсолютно ничего не соображает. Я побежал к Брохе, которая к тому времени уже разбила лагерь в комнате ожидания, и спросил, всегда ли он такой или это злобный сепсис продолжает отравлять многоумный мозг. Оказалось, что всегда.
– Видимо, он бывший раввин, – вежливо предположил я.
– Нет, нет, он действующий раввин и очень уважаем общиной.
Далее посыпались имена членов общины, и я, весьма впечатленный, вернулся к постели больного. Похоже, раввины, как и члены американского Верховного суда, срока годности не имеют.
Он пробыл в интенсивной терапии около недели, и я отправил его в обычное отделение, подозревая, что мы еще встретимся. Сдуру я дал Брохе номер своего мобильного. Следующие несколько месяцев она звонила мне почти каждую субботу и начинала разговор словами: «Доктор, вы же понимаете, что это святой день, я могу пользоваться телефоном только в случае, если речь идет о спасении жизни». Обычно это были действительно серьезные проблемы – например, неприятная медсестра или резидент. Или постоянные попытки администрации больницы его поскорее выписать. Иногда – письмо из страховой компании, требующей какого-то ответа от доктора.
После перевода в нормальное отделение мне открылась еще одна особенность этого невероятного организма. Я навещал Ребе каждый день и не мог не заметить этого. Инфекционный процесс моего пациента начинался не с температуры, подъема лейкоцитов и прочих ожидаемых патофизиологических процессов, а с богохульства и ругани. В сбалансированном состоянии он был довольно веселым стариком, иногда шутил, хватал медсестер, когда те пытались его переодеть. В ответ на их возмущение он резонно спрашивал, почему то, что можно им, нельзя ему. Но вот очередная бактерия или дрожжа пробивалась через курс антибиотиков, и Ребе переставал быть похож на себя. Он кричал, ругался на идиш, иврите и английском, тряс бородой и пытался сломать койку. В эти моменты противостояния со всем миром он напоминал мне лейтенанта из «Форреста Гампа», привязанного к мачте во время шторма, потопившего весь креветочный флот. Многие слова из его лексикона заставляли краснеть всякое повидавших медсестер, а резиденты знали, что ругающийся Ребе – оправдание консультации инфекциониста и изменения курса антибиотиков.
Смерть Ребе
«Дураки умирают по пятницам». Почему-то у меня навсегда засело в голове название этого чтива из ларька в метро. Не уверен даже, что я эту книгу читал. Евреи-ортодоксы же предпочитают умирать вечером пятницы, аккурат накануне или в самом начале шаббата. Это их последняя дань уважения семье, которой теперь надо каким-то образом похоронить родственника до захода солнца, не пользуясь телефоном и не трогая денег. И обязательно нужен раввин.
Обычный шум, сопутствующий хаосу при остановке сердца и последовавших реанимационных мероприятиях в отделении интенсивной терапии прервался тишиной. Значит, всё. Никому больше не надо никуда бежать, тащить рентгеновский аппарат и ультразвук, смешивать капельницы. Дальше транспорт, бумажки, звонок лентяю-патологоанатому, который отпустит пациента в морг без вскрытия, и посмертный эпикриз.
Пациент был не мой, выяснять, что там случилось, мне совершенно не хотелось. Я пытался закончить все записи и сбежать домой, пока ходят лифты. После захода солнца в пятницу и в субботу часть и без того редких больничных лифтов начинала останавливаться на каждом этаже, чтобы еврейские руки не пачкались о нажатие кнопок. Поездка на лифте с 15 этажа в этот день занимает минут двадцать, а о спасении жизни, которая позволяет нарушить шаббат, речь идет не всегда. За два года работы я перечитал в лифтах «Анну Каренину» и наконец осилил «Войну и мир».
Вдруг свет в моем офисе померк, и в дверях появилась запыхавшаяся Броха. Она уже давно знала не только номер моего мобильного телефона, но и где меня найти в любой рабочий день. Стратегически заблокировав единственный выход из моего крохотного офиса, она выпалила на одном дыхании:
– Доктор, только что умер один из членов общины моего мужа. Срочно нужен раввин, но в синагоге никто не подходит к телефону, до нее двадцать минут на машине, но пользоваться машиной нельзя, а Ребе сейчас слишком болен, чтобы этим заниматься.
Ребе в тот момент шел «на вы» против очередной экзотической бактерии, вооружившись смертельно токсичным для обоих антибиотиком пятидесятых годов. Аналоги лекарства нового поколения уже неработали из-за сформировавшейся резистентности микроорганизмов, а в пятидесятые Ребе был здоров и с антибиотиками не сталкивался. Я оценил оптимизм этой женщины, собиравшейся привести одного тяжелобольного пациента для чтения Кадиша по умершему, но вынужден был согласиться, что ругающийся и буйствующий старик сейчас не лучшее, что можно предложить заливающимся слезами жене и детям покойного. Кого-то из молодежи снарядили в путь, и глубоко в ночи он привел более конформистского раввина.
У этой истории не могло быть счастливого конца. К сожалению, с самого начала было понятно, что в какой-то момент Ребе не справится с инфекциями и недостаточностями органов внутри и вовне грыжи. Но финал оказался в прямом смысле ураганным. Разрушительный ураган «Сэнди», о котором чуть позже, и последующее наводнение затопили основной и запасной генераторы больницы, стратегически расположенные в низине у реки. Ребе и многих других пациентов ураганом и отливом унесло в малознакомую с ним и его многими проблемами больницу подальше от стихии. Утром в ближайшую к урагану пятницу у него упало давление, вода с растворенной солью, влитая в уже изможденное долгой болезнью сердце, быстро отправилась в легкие, и в самом начале шаббата Ребе не стало.



