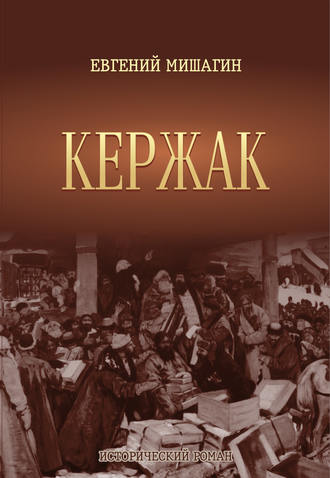
Евгений Мишагин
Кержак
На торжище собирается народ торговый со всего света, где бы еще вот так вместе разных людей увидеть. Лавка у Тихона была хоть и небольшая, но зато известная, все к нему за медом идут, знают, добрый мед. Местные монахи берут и в другие монастыри посылают, сказывали, что сам государь-батюшка медок купца Тихона ежегодно вкушал. На правом высоком берегу Волги, прямо напротив Макариевского монастыря, на Оленьей горе расположилась старая крепость, возле нее остатки стрелецкой слободы, небольшая деревушка, а дальше расположилось село Лысково, в недавнем прошлом оно принадлежало знаменитому боярину Борису Ивановичу Морозову, называли его названным царевым тятькой. Приказчик покойного боярина закупал на ярмарке всяческих кушаний и обозом отправлял своему господину в Москву, а жил боярин Морозов прямо у царя в Кремле. Вот он часть обоза и преподносил царю, так и попадал мед купца Тихона в цареву семью. Даже за теплыми и холодными морями едят из заволжского леса мед, и то сказать, сладкого поедят чужеземцы и душой к нашему народу ближе будут. Сколько бортников весь сезон собирают, Тихон не у каждого возьмет, отбирает. Если бы сам много лет не бортничал, так и толку в меду не знал. А тут нет, прежде чем в лавку на продажу мед выставить, сам каждый бочонок ковшом в другой бочонок мед переложит. И не от недоверия, а чтоб чего случаем не попало, да аромату медового не испортило.
Бывает в весенний разлив Волги, почитай все кладовые затопит, деревянные лавки смоет, в июне торговый люд смастерит себе новые лавки, так и купец Тихон после последнего паводка поставил лавку в центральном ряду, а вдоль берега стали железо да лес пиленый грузить. Несведущий человек спросит: «По какую нужду в такой-то дали нужно было знатную ярмарку ладить?» – А вот именно тут она и пригодилась. Раньше торговцы с товаром из Персии, из Индии, от Астрахани сами плыли вверх по Волге до Твери, через Оку до Москвы, по Сухоне до Устюга, по Северной Двине до Архангельска, а по Белому морю на Соловки и дальше к иноземцам. Распродадут купцы товар, загрузят рыбы соленой, мехов, соберутся в обратный путь, а тут уж и зима пришла, реки встанут. Вот где хочешь, там и зимуй до весны с товаром, за два сезона один раз туда и обратно сходят. А как появилась в среднем верховье Волги ярмарка, купцы к концу июля с разных сторон приплывали, за три недели распродадут, закупят товар и до холодов успевают вернуться по домам. Вот и получается, что раньше один длинный путь проделывали, а сейчас туда полпути и обратно полпути, за лето оборачиваются, вот в чем выгода Макарьевской ярмарки.
Как только лодка минула русло Керженца и вошла в широкий волжский простор, ее закачало на больших волнах. Они бились о борт лодки уверенно и твердо, несравнимо с лесной речкой, здесь можешь не удержать равновесия с грузом и перевернуться. Евдоким встал и вскрикнул:
– Ого-гоо! Волга-матушка, силища-то у тебя какая! Ого-гоо! – Поприветствовав великую реку и подняв себе настроение, Евдоким взялся за весла и начал рьяно грести.
– Тут глубина, багром уже не толкнешься. Хорошо, что с грузом по течению идти, а не супротив. Вот так и в жизни: пока идешь по течению, куда тебя волна несет, все ладно. А будешь супротив течения грести, так начнет тебя кидать из стороны в сторону, да и идти будет куда тяжелее. Вот какую хочешь, такую и выбирай себе дорогу, – учил Евдокима отец.
Эти мысли посетили Евдокима от приближения к Макарию, он то и дело поглядывал вдаль противоположного берега, где стояла крепость на Оленьей горе. Он на нее всегда ориентировался, когда ходил на встречу к Анисье. Зимой пешком через замершую Волгу или летом плыл на лодке, течением уносит в сторону, и приходится сильнее налегать на весла, чтобы попасть к тому месту, где проторена тропка. Сейчас Евдоким сидел спиной по ходу течения, поворачивая голову, он задирал подбородок и смотрел, когда появятся вблизи купола храмов Макариевского монастыря. Солнце склонилось в закате, по волжской воде, блестя золотом, словно горящая, вытянулась волнистая дорожка, по которой проплывал Евдоким, любуясь куполами церквей и радуясь окружающему его миру.
Возле монастырских стен вовсю суетился народ. Пристать к левому берегу поближе к стене восточной стороны оказалось не так и просто, с каждым годом насадов[3] приходило на ярмарку все больше, а поменьше суденышки да лодки так и вились, словно окуньки возле заводи. Года три уже, как стало больше появляться иноземных торговцев со своими товарами, да и у наших купцов закупали. Весь берег был завален товарами: пшеница, рожь, овес, коровье масло в бочках, лен, пенька, канаты, кожи дубленые, юфть, полотно, холсты, слитки меди, листы железа. Тащил свой товар на плече и Евдоким, торопился показаться отцу, чтобы он не волновался, при этом по сторонам старался не смотреть. Только под ноги, чтоб не наступить на чужое имущество. Да и не запнуться самому, не расколоть бочонок с медом, а то была уже один раз такая оказия, но о ней он вспоминал с удовольствием.
Отец был в лавке, Евдоким поставил бочонок, поклонился в ноги, облобызались, тятька быстро расспросил все о доме, как доехал, кто из бортников без него приносил мед. Рассказал все Евдоким и пошел за другим бочонком, теперь он уже не торопился, крутил головой по всем сторонам, рассматривал торговый люд, готовившийся к завтрашнему открытию торжища. Особенно интересно ему было наблюдать за иноземцами: турками, кызылбашами (персами), цинами (китайцами), немчурой разной. Лепечут по-своему, одеты пестро, некоторые табаком дымят, одним словом, простому русскому человеку казалось это забавно.
Вот и наступил день открытия ярмарки, у лавки купца Тихона с утра потихоньку начал собираться народ и пробовать мед из одного бочонка, из другого. К обедне расторговались, а к вечеру распродали четвертую часть завезенного меда. Тихон был доволен первым торговым днем и позволил себе с устатку выпить немного медовухи. Раздобрел отец, стал сыну предлагать подыскать ему новую невесту, но Евдоким о женитьбе на другой девушке слушать не хотел:
– Тятенька, отпусти меня еще раз в Лысково съездить и узнать, может, отец Анисьи передумал отказываться с нами породниться? Я Терентия попрошу сходить к Никифору и поговорить с ним.
– Нет, сын, Никифор не будет с нами родниться: приказчика Феропонта да нового присланного в Лысково попа побоится.
– Все одно, тятенька, разреши мне сходить к Анисье, хоть одним глазком глянуть на нее в последний раз, а там как тебе угодно. С кем тебе ладнее будет породниться, из того роду и бери невестку.
– Сходить, поглядеть, что на нее толку-то глядеть, раз она уж будет не твоя, лишний раз только себе душу теребить, – передразнивая, ругал сына Тихон.
– Отпусти, тятенька?
– Вот заладил, дурья башка, отпусти да отпусти! Сказано тебе, к Анисье Фролка сватается, сын ярыжки при остроге. Бестолочь, беду на себя накликать можешь!
– Все одно прошу, отпусти?!
Поругался еще Тихон, да видит, делать нечего. Разрешил сыну в Успение сходить в Лысково, а в зимний мясоед велел ему готовиться к свадьбе с другой невестой, которую он сам ему подберет из своих знакомых родов. По отцовскому разумению, новая девица все так же потеха, а, став женой, обласкает Евдокима, страсть к Анисье у него и вовсе забудется.
Пришло Успение, к утру Евдоким переплыл к правому берегу Волги, добрался до Лыскова, прошелся несколько раз вдоль дома Никифора, пока собаки не залаяли. Ему повезло, Анисья выглянула в окно, но вскоре ее кто-то одернул, Евдоким решил уйти к церкви и там ждать. Народ шел в церковь, позади отца с матушкой шла и Анисья в летнем, праздничного покроя сарафане. Рядом с ней два младших братишки и сестренка. Евдоким снял шапку, выступил вперед и поклонился в пояс Никифору, тот ответил головой, и, было видно, с неохотой. Анисья встала, их глаза устремились друг на друга. Ее обычно краснощекое лицо было белым, выражало печаль. У Евдокима лицо тоже побелело, а сердце в груди билось сильнее. Никифор заметил, что люди стали обращать на его семейство внимание, он резко повернулся, сделал строгий взгляд. Матушка дернула дочь за рукав, Анисья опустила голову и прошла мимо. Евдоким стоял и смотрел им вслед, его осматривали мимо идущие люди, он тоже пошел за ними в церковь.
Перед самым церковным крыльцом путь ему преградили двое парней: это был Фрол с приятелем Митрофаном, сыном Феропонта.
– Знаем тебя, с заволжских лесов будешь, сын купца Тихона. Отец твой раскола придерживается. Зачем к нам в церковь идешь? Наш новый батюшка по исправленным книгам службу ведет, – говорил Фрол.
– Не к попу иду, к Богу, – ответил Евдоким и протиснулся между двух вставших стеной парней.
– Батюшка не велел пускать раскольников! – Крикнул в спину Фрол.
– Мы ничего не раскалывали, чтим переданный отцами обряд святости на Руси, – спокойно ответил Евдоким.
– Учить нас пришел, раскольник, – уже зло закричал Фрол, – а то мы не слушаем проповеди?! Знаю от тятьки, указ такой имеется, за раскольничью проповедь у церквей сажать в острог! Хватай его, Митрофан, к тятьке моему тащим!
И два парня бросились на Евдокима. Он отбивался, справлялся с ними обоими и хотел уже убежать, но Фролка, лежа на земле, цепко схватился за ногу Евдокима и во всю глотку закричал:
– Подсоби, народ, держи раскольника! Тащи его в острог!
Кто-то смотрел, не пособляя, не считая для себя возможным помогать удерживать русского православного христианина, в недалеком прошлом полного своего единоверца и по обрядности тоже. Но нашлись и такие люди, кто захотел помочь Фролу с Митрофаном, больше не по совести своей, а из-за страха, чтобы потом самому не ответить перед ярыжкой или, тем более, перед приказчиком Феропонтом за нежелание помогать их сыновьям. Схватили Евдокима еще два мужика и повалили наземь, завязали кушаком руки назад, а Фрол в этот момент наносил удары ногами. Потащили Евдокима к погребу и столкнули в холодную яму, дверь закрыли на скобу, Митрофан остался сторожить, чтоб не нашлось какого-нибудь сострадавшего, и не отпустили его, а Фрол пошел за отцом, стрелецким ярыжкой.
Пришел Онисим, и они втроем связанного Евдокима отвели в крепость и посадили в острог. Арестовать это одно, ярыжка стрелецкий имел какие-то полномочия, а вот судить не позволялось ему, и они на вторые сутки собрались вести Евдокима в Нижний Новгород к воеводе или митрополиту. Пока держали Евдокима в остроге, не поили и не кормили, только приходили проверить узлы и, где ослабло, подтянуть покрепче.
– Принеси ковш воды, – сказал стрелец ярыжка Онисим своему сыну Фролу, – а то не довезем, по дороге помрет еще.
Митрофан поднял Евдокиму голову, Фрол, улыбаясь, держал ковш с водой на расстоянии и плескал ему в лицо, а он слизывал воду со своих разбитых губ. Погрузили его в телегу, за извозчика уселся Фрол, Митрофан рядом в телеге, а Онисим в полном вооружении верхом на коне в сопровождении, отправились в Нижний Новгород. К ночи привезли в Нижегородский Кремль к Ивановской башне, где размещался острог, передал Онисим и заготовленную бумагу, в которой сказывалось о выдуманных совершенных злостных деяниях Евдокимом: проповедовал старую веру у церкви, ругал новый обряд и подбивал народ на бунт супротив царевой власти.
Глава 2
Христофор
Обитатели Ивановской башни развязали Евдокима, напоили из кувшина водой, кто-то дал сухарь хлеба. И потянулись долгие дни и ночи жизни в темнице: то в самой башне, то возле нее в земляной тюрьме. Если бы не боялся Евдоким потерять Анисью, да знать бы ему, что недолго придется в темнице сидеть, так он и не жалел бы, что с ним так случилось. Тут Евдоким познакомился с одним из сидельцев, старцем Христофором, умным и грамотным человеком, прошедшим длинный жизненный путь, лично знавшим знаменитых на Руси людей. Беседы с ним занимали все время дня, а порой и ночей. Многое узнал Евдоким от старца Христофора о Руси. Он стал думать, что так было угодно, что они встретились. Не дал старец молодому парню в темнице впасть в уныние, вселил в него больше веры, дал надежду на будущую жизнь.
– Скажи, старче Христофор, – спросил Евдоким, – есть ли правда в никоновом новшестве обрядности?
– Истина одна, в поисках ее люди идут разными путями, отсюда и правда получается разная, – ответил Христофор, и посмотрел старик на молодого парня, увидел в его глазах жажду к познанию и продолжил:
– Была мне в жизни благодать, довелось несколько лет прожить в Троице-Сергиевом монастыре, с самим архимандритом Дионисием познакомиться. Великой праведной души человек, большой знаток Божьего писания. Читал я переводы Дионисия проповедей Ивана Златоуста, во многом по его трудам мы теперь и знаем о праведном пути к христианскому обществу. С Иваном Нероновым, учеником Дионисия, там же встретился, он учил меня не только о спасении своей души думать, но и о спасении других заботу проявлять, говаривал: «В миру живешь, с миром и спасайся». Служил Иван Неронов протопопом Казанской церкви на Красной площади, с ним же и Аввакум служил, вместе они в первых рядах и выступили с обличением Никоновых нововведений, открыто отстаивали отеческую веру. За это Неронова сослали в Спаско-Каменный Вологодский монастырь, он оттуда писал к царю и царице письма с обличением деспотизма Никона, требовал созыва представительного собора для решения церковных дел, так его еще дальше услали в Кандалакшский монастырь, а он сбежал. Аввакума заточили в подземелье Андроникова монастыря, потом отправили с женой в Забайкалье и дальше в Якутский острог. Так он и мыкался по Сибири, почитай, 11 годов. А сейчас Аввакума содержат на Севере в Пустозерске в тюрьме из сруба в земляной яме. Это очень далеко, но туда можно доплыть по Печоре. В устье реки и будет этот острог. Я ходил туда, стражу можно умолить пустить к нему. Или от него весточку они сами передадут. Его там почитают, будешь в тех местах, навести его и от меня поклон передашь, мне уж видать не доведется.
– А для чего Никон задумывал обряды менять? – С жаждой интересовался Евдоким.
– Когда Иван Неронов в Даниловой монастыре принял монашество с именем Григорий, то задумал он церковное примирение наладить и пошел к Никону, тот его принял, они помирились, а раскола не остановили. Многие сторонники старого благочестия тогда осудили Неронова за личное примирение с Никоном, а он искал примирение не для себя одного, а для всех христиан. Помирились Никон с Нероновым, Никон ему и говорит: «Молись, Григорий, как знаешь», – вот и думай, в чем его новизна правдивее. Раньше святость была на Востоке, мы об этом знали, а сейчас они, посчитай, больше полутораста лет, как под басурманами живут, латинские книги читают, теперь нам об их святости ничего неведомо. Москву Третьим Римом называем, так и создавайте вселенскую церковь на своих отеческих традициях в православии. А Никон, наоборот, стал восточным патриархам потрафлять, на их манер обряды менять, а они его свергли с патриаршего престола. Он ругался, оскорблял их, вот тебе и проповедь о смирении, все от гордыни. Теперь Никон сам особого интереса к обрядовой новизне не испытывает, зачем ему, коли он не патриарх более, живет простым монахом в Ферапонтовом монастыре на Белом озере. – Христофор покачал головой и сказал:
– А разве мы в Нижегородском ополчении с Мининым и Пожарским неправильно нашего Господа славили, осеняя себя двуперстием. Шли в Москву смуту усмирять, когда поляки нам на милость сдавались!
– Так вы, старец Христофор, в народном ополчении Минина участвовали? – Удивленно спросил Евдоким, ему о нем рассказывал отец.
– Тогда я моложе тебя был, вот недалече от этой самой башни, где мы ныне с тобой темники, ты молодой и я старец. Как сейчас помню, за стеной собралось много жителей посада, а накануне собирались священство и другие старшие в городе люди, обсудили и к народу вышли с воззванием. Я, расталкиваясь локтями, хочу поближе пробраться, а взамен подзатыльники получаю, но мне удалось. Услышал речь протопопа Саввы и Козьмы Минина-Сухорука, они грамоты Дионисия читали, с благословения патриарха Гермогена призывали встать за веру Христову, тогда еще неисправленную на новый лад, а свою, отеческую. Звали на помощь Москве идти! Меня поначалу не хотели брать, говорили: «Малой еще», – и мать не пускала, а отец благословил. С ополчением я в Кострому пошел, потом в Ярославль. Там долго стояли, народ кликали, деньги на оружие собирали, а оттуда двинулись к Троицкому Сергиеву монастырю, и там уж рукой подать до града Москвы. За год в ополчении быстро возмужал, поначалу мне в обозе велели быть вроде посыльного, или где кому помочь: оружие, кольчугу подковать, а первая битва началась, приходилось раненых тащить к обозу, со второй битвы сам уже с мечом в ряду стоял. Кто тебе даст указ сидеть в обозе, коли оружие осталось лежать на ратном поле. Могу сказать, от другов своих старался не отстать, а об удали моей пусть судят другие. Много доброго народа я в ополчении встретил. После освобождения Москвы один добрый человек в Троице-Сергиевом монастыре послушником поселиться помог, грамоту глубже там постигал, книги отцов церкви читал. Потом ушел в Москву, там жил, со знатными боярами познакомился, вернулся в Нижний Новгород. Родные меня поначалу и не признали, уходил с ополчением совсем юнец, а вернулся муж. Со временем народ стал и ко мне за советом приходить, сам ходил по окрестностям проповедовал веру православную по отеческому преданию, вот и пострадал за веру. А самого-то Дионисия, который воззвания для спасения Москвы по городам рассылал, после Смуты новая власть в острог посадила, в ереси обвинили. И пока отец царя Михаила Филарет из польского плена не вернулся, не заступился за него, тогда только выпустили, вот так у нас к верным сынам отечества относятся. А приехал тогда Патриарх Иерусалимский Феофан, так он свой клобук на голову Дионисию возложил.
– Старче Христофор, а есть на Москве бояре, что старой веры придерживаются?
– Посчитай, в душе так всякий умный боярин. Сама матушка-царица Мария Ильинична в церкви не противится никонианству, а дома молится, как ей душа велит, и заботу о сиротах старого благочестия имеет. И наша любимица Феодосия Прокопьевна Морозова, будешь в Москве – обязательно ее дом навести, там много наших собирается, – от меня весточку с поклоном передашь, позже я о деле расскажу. Раньше боярыня Морозова всегда на службу в церковь в Кремль ездила, с царицей они подругами считаются, царевичей и царевен воспитывать она помогала. А сейчас Феодосия Прокопьевна переписку с Аввакумом ведет и за его страдания на царя обиду держит, и в Кремль не ходит, как бывало. А послания Авакумовы Феодосия Прокопьевна с царицей Марией Ильиничной вместе читают, а царь прознал о такой переписке и сердится на Морозову.
– А о чем Аввакум в своих посланиях пишет, во что он верит?
– Верит Аввакум, что пробудится в отдельном человеке вера Христова и от этого все общество нравственно преобразится. Пишет, мы за Христа страдаем, как первые христиане страдали, чем же гонители наши от римских язычников отличаются? Единого Бога славим, так за что же нас в темницы кидают, на цепи сажают, словно зверье, языки режут, в срубах жгут.
– Может, народу также с властью поступать, как они? С оружием защищаться? – Хотел больше понять Евдоким.
– В коих местах и с оружием народ защищается, да вот беда, соблазн греха властолюбия у человека велик. В этом грехе власть повинна, так что же нам им уподобляться? Словом Христовым с любовью к человеку и своей достойной жизнью веру проповедовать нужно, за тобой больше народа пойдет. Феодосия Прокопьевна Морозова вечерами за чаем подолгу беседовала с нами, сиротами, велела ждать и терпеть, восторжествует вера Христова в Московском государстве. Феодосия Прокопьевна сказывала, старший из наследников престола, царевич Михаил, добр душой и, как матушка-царица, не принимает Никоновых новшеств, так что будем ждать доброго и праведного царя для Руси Михаила.
Сам Алексей слывет в народе тихим царем, да вот беда, несамостоятельный он. Смолоду слушал названого тятьку, боярина Бориса Морозова, друга своего отца, царя Михаила. В честь деда Алексей Михайлович и назвал своего первенца Михайло, так в Московском государстве все потихоньку и ладилось. А вот как не стало боярина Морозова, царь попал под влияние Никона, так и стал его научения за свою волю выдавать. А боярам только бы в казну руку запустить да своих людишек обирать, еще хотят, чтобы их почитали и любили, а от обид какая у народа будет любовь с почестью.
Испытание Смутным временем для Руси было Божье наказание за наше маловерие, но Русь вышла из него единодушной. Освободили Москву от ляхов да самозванцев, нам бы Бога в смирении благодарить, а власть Никонову прелесть с кнутом насаждает. Начнут менять сложившийся уклад в церкви, во всей жизни уклад изменится. Духовная смута поднимется, маловерие восторжествует, люди от церкви и царя отвернутся, в корысти да в пьянстве утешение себе будут искать. А от этого новая беда на Русь придет, и, пока мы не вернемся к своему традиционному укладу жизни, где голос народа на миру слышен, а не только государев, ладу в русском доме не будет. Старец Христофор грустно опустил голову и задумался, а потом добавил:
– Судьба нас ждет с тобой нелегкая, я уже старый и сам выбрал свой путь, служить Богу и народу, а ты молодой, тебе жить, своей волей принимай решения, какой дорогой пойти.
Так за долгими беседами да допросами с пристрастием палачей воеводских да дьяков, требовавших от Евдокима и старца Христофора отречься от старой русской православной веры, прошла зима. К весне старец Христофор не выдержал пыток да побоев, занемог и помер. А Евдокима заковали в цепи, приказали на щеке выжечь букву, если сбежит, чтоб каждый мог видеть, – этот «колодник». Палач поднес раскаленное клеймо, Евдоким отвернулся в сторону, и прижог получился ближе к скуле. Когда щека покрылась молоденькой бородкой, то шрам был плохо заметен. Это порадовало парня.
* * *
Прошли волжские льды, паводок начал спадать, потянулись по Волге первые суденышки, подошел к Нижнему Новгороду и караван с казенным хлебом для Царицына и Астрахани, боярские да купеческие насады с товаром, а одно судно было с заколоченным трюмом и стрелецкой охраной. Нижегородскому воеводе грамоту приказную с Москвы передали: коли есть молодые да здоровые в остроге, отправить в низовья Волги черту защитную от набегов ногайцев строить.
Гремя цепями, Евдокимку погнали под горку на берег, весны в этом году он еще не видел, все в темнице держали. Вот она полноводная Волга-матушка, за водяной гладью вдали виднелся его родной левый луговой зазеленевший берег, так и захотелось парню, как бывало, крикнуть: – «Ого! простор-то какой!». Вдоль ближнего берега вытянулся длинный караван, возле судна, на которое привели Евдокима, стоял пристав в окружении ярыжек, стрелецкий голова со стрельцами и приказной Сыскного приказа. Заскрипели замки, петли, открылся люк трюма, а оттуда пошел запах гнили, и вместе с ним боль человеческая вырвалась на свет Божий. Евдоким взглянул в голубое небо, там кружила вольная птица, глотнул свежего воздуха, и чья-то рука втолкнула его в яму трюма.
Тронулся караван вниз по Волге, Евдоким лежал на дне судна в темноте, окруженный арестантами, как и он закованными в цепи, а кто был ссыльный – без цепей. Где-то слышался надрывный кашель: этот еще поживет, вот тот тихо давно стонет, может не доплыть до конца большой реки. В сознании Евдоким просчитывал, где он проплывает в данный момент:
«Вот тут, вот сейчас с левого берега уже должно быть устье Керженца, родина, дом, как передать отцу, что везут его вот на этом караване, хоть бы знал он о своем родном сыночке, не убивалась бы от неизвестности и мать. – При этих мыслях Евдоким сразу почувствовал голод, и сильно захотелось есть, до этого он не думал о еде. – Давно не ел горячего кушанья, приготовленного матерью к самому подъему на ранней зорьке. Будет ли еще в моей жизни такое, чтоб все вместе отмечали именины: отец, мать, сестры, братишка, тепло на полатях после истопленной печи. – И он зажал ладонями голову и поджал к животу колени, стараясь изменить положение, чтобы отвлечь себя от голодного мучения. – А вот сейчас проплываем Макарьев монастырь с прилаженной к стенам ярмаркой, разлив еще не совсем спал, не потопило ли в этом году левый берег, не разрушилась ли новая лавка, сколько ладили с отцом в прошлом году. Как справится тятька один со строительством лавки и амбара? Если опять смыло, будет он один трудиться да о сынке печалиться. А на правом берегу где-то возлюбленная Анисия, она тоже не знает, что Евдокима везут, – после этих мыслей боль от желудка подступила к сердцу, – обвенчаюсь ли с кем, коли Анисью выдадут замуж, будут ли у меня сыновья, или меня ждет тяжелая судьба каторжанина».
Так проходил день за днем, нижняя часть судна была погружена в холодную, весеннюю воду, Евдоким лежал лицом в просмоленные доски трюма. Озноб пробирал его тело, временами арестанты, как брошенные слепые котята, прижимались друг к другу, чтоб согреться. Он смотрел перед собой и ничего не видел, ему хотелось отогнутыми ушками кандалов на запястьях прорезать щель в днище, в последний раз напиться волжской воды и опуститься в пучину, – но он не один и поэтому не имеет права принимать такое решение. Евдоким вспоминал Христофора, прокручивал в голове беседы с ним, знал, что старец не одобрил бы его отчаянья, и это помогало ему держаться, стало даже стыдно за свою душевную слабость. Евдоким перевернулся на спину, смотреть было все равно куда, везде было темно, слышался только чей-то кашель, храп. Пока они плыли, казалось, по бескрайней реке, подняли двух умерших, – все ли дотянут. И вот наконец-то их судно причалило, выгрузились на берег, было раннее утро, Евдоким дыхнул полной грудью свежего волжского воздуха, над водой, словно пар, клубился белый туман, но не чувствовалось его прохлады:
– Как на родном Керженце, – мелькнула приятная мысль.
Виднелись постройки посада, крепость, это был Царицын. Тут в степи и нужно было размещать Черту от набегов степняков, но за все лето Царицынский воевода Андрей Унковский так и не распорядился отправить колодников в степь работать, он неплохо эксплуатировал их труд на своем дворовом хозяйстве, – государева служба подождет, свое-то ближе. Унковский принадлежал к таким воеводам, которые наносили вред Московскому государству своим воровством местной казны больше, чем все окрестные воры вместе взятые. А тут вдруг воевода спешно распорядился всех колодников бросить работать день и ночь по укреплению городской стены. Слушком от стрельцов арестанты услышали, что казаки из Персии возвращаются, два с половиной года их не было, думали, и не вернутся. А тут, на тебе, возле Астрахани стоят, со дня на день челны их возле Царицына могут показаться. Как воеводе Унковскому поступить, не знает он, выгадывает, хитрец. С казаками дружбу водить государь запрещает, можно в опалу попасть, а открыто казакам противостоять боится.
Перестали колодников на работу гонять, какой день держат в тюрьме, затих весь Царицын, но потом за стенами стало шумно. И вдруг отворилась дверь и с хрипотой, но веющим свободу голосом прозвучало:
– Все, вываливай на волю!
Поползли арестанты, потопали, загремели цепями. Вышел Евдоким, посмотрел на синее небо, солнце конца лета 1669 года припекало, это же низовья Волги, а не среднее верховье. По Царицыну казаки гуляют, свой товар из Персии продают и стрельцы с ними, все вроде вместе. Подвели колодников к крепкому, одетому в добротную рубаху казаку, он окинул их взглядом и уверенным голосом сказал:
– Мы казаки вольницы, атаманом буду я, зовут меня Степан, сын Тимофея Рази! Нам ваше воровство неведомо, и розыск мы не чиним. Кто захочет идти, куда его глаза укажут, пусть идет, а кто захочет со мной пойти, тот вольным казаком будет!
Стрельцам, все еще пытающимся стеречь арестантов, не совсем понимающим всего происходящего, атаман тоже предложил определиться: с ним идти или у воеводы оставаться, а могут и по домам уходить. Стрельцы бросили колодников опекать, скучились в две кучи, одни оставались с казаками, другие шептались в раздумьях.
Атаман вновь развернулся к арестантам, они все как в один голос загалдели:
– Батюшка-атаман, из могилы нас поднял, как нам не идти за тобой, – и стали земным поклоном благодарить, а некоторые на колени повалились. Только один Евдоким спросил:
– За что воюешь, атаман?
– За волю народную! – Ответил Степан Тимофеевич. – К персам за зипунами ходили, а далече жить будем, как круг вольных казаков прикажет.
– За Святую Русь и волю народную буду стоять, а разбой чинить не стану, если подойду тебе такой, прими, атаман, верой служить буду, – сказал Евдоким свое решение.
– Не хочешь разбой чинить, – усмехнулся Разин, – а бояре-лиходеи над бедным народом не разбой чинят? Я по всей Руси прошел, и везде видел голод, несправедливость!
Разин всмотрелся в лицо парня, на щеке которого чуть прикрывшейся еще не густой бородой, виднелся шрам выжженной буквы, должной обозначать для каждого встречного городового стрельца или приказного, что этот «колодник». – А что ты под святостью Руси себе мыслишь? – Спросил Степан Тимофеевич?
– Жить по христианскому благочестию, устоявшемуся на Руси, заповеданному нам отцами и дедами, чтоб святость в жизни примером была, а не корыстолюбие и разбой, – не прошли даром долгие беседы со старцем Христофором.
«Этого обласкай, так он не продаст и не украдет», – подумал про себя Разин и сказал:
– За старую веру будешь стоять, воля вольному, – немного помолчав и, словно одумавшись, Разин громко изрек:
– Вера – это дело поповское, а наше дело казацкое, саблей воли добиваться!
Вокруг заблестели клинки, и послышался восторженный гул в поддержку слов атамана. Казаки повели колодников к кузнецу помогать снимать цепи. Один казак по дороге рассказывал про своего атамана Степана Тимофеевича, как тот совсем недавно оттаскал за бороду их мучителя, царицынского воеводу Унковского. Освобожденные арестанты слушали казака с восхищением, а он, видя в глазах восторг, добавлял:
– Атаман у нас ведун[4], мы с ним на Хвалынском море[5] кизилбашей били, удачливый атаман, мы с ним из таких переделок выходили, ух ведун!



