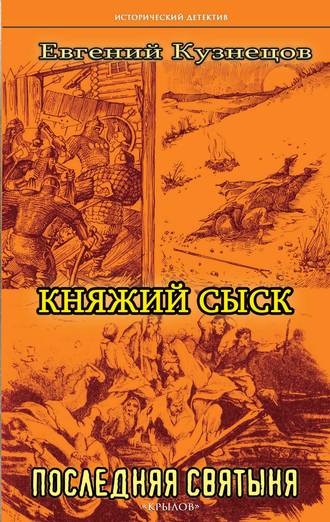
Евгений Кузнецов
Княжий сыск. Последняя святыня
– Опять свое правдолюбие на друзьях оттачиваешь? – с укоризной сказал Алексий. – Тебя сколько раз из дружины начальство за правду-матку выгоняло? Всего два? Ой ли?.. Видно, только могила горбатого исправит. Ладно, скрывать не стану, конечно, и в церкви места иереев по-разному раздаются. Ты считаешь, я – недостоин?
– Достоин! – Одинец поморщился. – Кисловатое… Конечно, достоин. По секрету скажу, я очень рад этому, но виду не подаю, чтоб тебе голову не обносило и нас, сирых, на улице узнавал.
– Что с тобой делать! – снова рассмеялся монах. – На тебя как на юродивого сердиться нельзя. Так как все ж поживаешь?
– Третьего сына жду к зиме. Или девку.
– Не жалеешь, что из дружины ушел? Большая ведь разница – или на княжеских хлебах, или в податном сословии…
– Если честно, иногда жалею. Мне здесь, конечно, вольнее, подальше от начальства; да и дело кузнецкое люблю – ты бы видел какие мы с дядькой врата для церкви отгрохали! А Марью с парнишками жалко. Чтоб прокормиться, нанялся с купеческим обозом до Твери сходить. Вот и заехал к отцу Нифонту за благословением на дорожку, а оказалось – проститься.
– То, что в Твери сейчас ордынцы, слышал?
– Слыхал… Но ты ведь много больше моего знать должен.
– Мне эту историю пришлось с самого начала наблюдать. Два года назад прежний наш митрополит Петр отправил меня из Благовещенского монастыря, где я постриг принимал, в Сарай, к владыке Варсонию, «на выучку», как сказал. Ну, приехал, живу, служу в храме, язык монгольский помаленьку изучаю. Там, в Орде, каких только людей и языков не намешано! Это мы, не различая, всех их татарами зовем, а на деле служат монгольскому государю и половцы, и булгары, и китаи, и еще всякой всячины людской косой десяток… Настоящих-то монголов и татар сибирских с Батыем сто лет назад, говорят, всего четыре тысячи пришло… О чем, бишь, я? Ах, да! Живу я в Сарае… А здесь, на Руси, между тверским князем Дмитрием и московским Юрием очередная распря начинается. Естественно, по причине, по которой московские князья с тверскими уже двадцать лет враждуют: кто владимирский стол займет и, стало быть, первым князем на Руси будет!.. Ты наливай еще, если хочешь.
Но Одинец решительно отодвинул кувшин от себя:
– Как его, такое кислое, греки пьют?! Или привычка? Ну, продолжай.
– Позапрошлым летом в Орду к хану Узбеку является князь Юрий и просит возвратить ему ярлык на великое владимирское княжение. Всех Узбековых мурз и нойонов подарками задаривает: кому коня, кому сокола, кому панцирь с позолотой; жёнам ихним – соболей, украшений без счёта. Дмитрий Тверской, который уже три года как великокняжеский владимирский стол занимает, тоже немедля в Орду прискакал. Он отдавать великий стол, понятно, не хочет. И приехал не с пустыми руками. Подарки на татар сыплются с обеих сторон. Ну, поначалу всё идет мирно. Дружинники княжеские, конечно, втихомолку на ночных улицах друг другу зубы считают, но и только… И вот однажды оба князя как на грех в одно и то же время подъезжают к нашему храму. Меня об эту пору нелёгкая из церкви вынесла, и смотрю: спорят. А потом вдруг Дмитрий выхватывает меч и укладывает Юрия с одного удара. Никто понять ничего не может, уж очень всё быстро произошло. Вопли, шум… Доносят хану. Узбек, конечно, гневается. И Дмитрия Тверского казнят…
– А он на что надеялся? Ведь Юрий как-никак в свое время зятем хану приходился, на ханской сестре был женат, царство ей небесное!
– Ну, вспомнил! Это давно быльём поросло. Узбек того Дмитрию не простил, что произошло всё в ханской столице и без его, великого хана, соизволения. Что он за царь, коли подданные будут творить что хотят? Если б это здесь, на Руси, приключилось, то, может, только пожурил слегка. Сколько бояр и князей тут в междоусобицах гибнет, и ничего! Тот же Юрий двадцать лет назад рязанского князя у себя в темнице сгубил…
– Дальше-то что было?
– Дальше, прошлым летом, в Орду приезжают младшие братья убиенных князей.
– И все повторяется: подарки ханским прихлебаям и их жёнам, и вся прочая возня вокруг великого княжения?
– Сын мой, глаголешь ты невоздержанно, но, по сути, верно. Александр, младший брат Дмитрия, в том споре подле престола великого хана превозмог нашего московского князя Ивана Даниловича, младшего брата Юрия. Ярлык на великое княжение Узбек отдал ему. Ивану он только подтвердил права на Москву и московское княжество.
– Да ведь Иван Данилович и так последних лет десять на Москве управлялся, пока Юрий за великое княжение бился!
– Верно. Но всё равно хозяином Москвы по старшинству считался Юрий. В общем, Иван Данилович вернулся из Орды, оставшись «при своих». А вот тверской князь Александр воротился с умопомрачительными долгами: наобещал Узбеку с три короба, что, мол, готов с русского улуса дани больше собирать. Да обещал и недоимки с некоторых княжеств вытрясти. Узбек – человек восточный: доверяет, но проверяет. Короче, в «помощь» великому князю он своего двоюродного брата прислал с воинским отрядом. Звать его Чол-хан, у него тысяча конников. Вот, пожалуй, и всё, что я знаю…
Глава третья
Мерно катят колеса по широкой убитой тысячами конских и человечьих ног дороге на Тверь. Обоз первостатейного московского купца Рогули из шестнадцати гружёных с верхом подвод длинной сороконожкой растянулся среди зелёной чащи леса. Повозочные, разомлев от духоты и бесконечного мелькания в глазах шевелящихся конских ляжек, клюют носами; иногда кто-то спрыгивает на мохнатую от пыли обочину и трусит рядом с телегой, разгоняя дрёму.
– Эй, там, назади, подтянись! – Рогуля жёстко вытянул жеребца арапником, поскакал в конец обоза. – Чего расслабились?! Дома на печке отсыпаться будете, ироды. Тут земля не нашенская…
Ироды – это про своих холопов, их у купца в караване шестеро, остальной народ сборный: кто на своей телеге и со своим товаром, кто подряжённый в возчики Рогулинских возов за вознаграждение. В хвосте обоза рысью шли пятеро верховых: охрана. Одинец тоже ехал налегке, верхами. Рогуля, против его опасений, легко согласился дать место под скобяной кузнецовский товар на одном из своих возов. Затем, осанясь и уперев руки в бока, добавил:
– Мне тебя, Лександр, в простых возницах иметь выгоды нет. Ты деньги в охране отработаешь. Сам понимаешь – коли что, с охраны и первый спрос. Упустите какой товар, с вас вычту.
«Эк, как его на своём дворе-то раздуло, – подумалось Александру. – Хозяином себя чувствует. Сейчас торжественную клятву дать потребует – помереть за его мошну».
– Ладно, как скажешь, – ответил Одинец, – люди мы маленькие, шкурка на нас тоненькая.
Купец дёрнул щекой, и разговор не продолжил. Дело происходило четыре дня назад на купеческом подворье, где собирался весь поезд. Высокий Рогулинский терем находился в глубине большого прямоугольного двора, обнесённого крепкой оградой, нижняя часть которой была выложена охристым рваным камнем-плитняком, завезённым, наверное, издалека: в окрестностях Москвы этого строительного материала найти было негде. В подмосковном Мячкове, правда, ломали камень, но он был светло-серый, почти белый.
От центральных купеческих хором двумя крыльями отходили крытые дранью дворовые постройки: ближе к дому несколько амбаров с массивными дверями, в пробоях которых висели трехфунтовые замки, далее – конюшня, коровник. На задах двора стояли свинарник и птичник.
Одинец достаточно наслушался в селе о богатстве своего земляка, как и о его нынешней гордой недоступности для бывших односельчан, чтобы, увидев воочию, испытать удивление. Не было и зависти, Александру только подумалось: «Что ж ты, купец-молодец, мать свою в селе оставил в плохонькой избёнке доживать?»
Одинец перегрузил свой товар в одну из Рогулинских телег. Всё время этих хлопот рядом неотступно крутился мальчишка, которого здешняя дворня кликала Илюхой. Глядя, как Александр загнал под навес освободившуюся телегу, отрок подавил вздох и сказал:
– Верхами пойдёшь, дядька? Вот бы мне на такой коняшке!
Левый глаз парнишки косил и, живя своей жизнью, норовил скатиться ближе к носу, под которым блестело обычное достояние деревенского детства. К этим наружным достоинствам добавлялось косноязыкое произношение: «р» ему давалось плохо и получалось «велхами».
Одинец улыбнулся, глядя на это явление, одетое только в длинную, с чужого плеча, истасканную рубаху ниже колен:
– Не спеши, коза, все волки твои будут.
– Как же, будут… – Илюха сердито свёл брови, отчего курносое добродушное лицо стало еще уморительнее, – у Еголия дождёшься, он всегда не по заслугам бьёт, а по заголбку.
– По загорбку, значит? Ты из холопов или как?
– Батюшка мой задолжался купцу, теперь я по кабальной записи десять годов на него работать должон.
Проходивший мимо молодой конюх отвесил парнишке легкий подзатыльник – «Опять колокола льёшь про родителев?» – и обратился уже к Александру:
– Не слушай ты его, мил человек, врёт все. Сирота он круглый. Прибился вот ко двору, живет из милости, дурачок. А про отца и холопство заливает по глупости своей, весу себе набавляет, байстрюк.
Одинец поймал мальчонку, приподнял легкое тельце:
– Холопство, брат, последнее дело. Особенно, когда добровольно…
– Это верно, – подтвердил словоохотливый конюх, сваливая под ноги несённую им конскую сбрую с намерением обстоятельного и неспешного разговора:
– Но коней любит – страсть! И управляется с имя любо-дорого…
Одинец прошелся пучком сена вдоль лоснящегося конского хребта, вновь глянул на худенькие плечи подростка:
– Кормить-то, видно, его не всегда вспоминают?
– Да уж, у нас тут к еде никого не приневоливают. Березовой каши, правда, холопам вволю насыпают.
– Строг хозяин, стало быть?
– Не столь хозяин, как приказчик его, вон тот, Силантием звать. У некоторых из наших задницы от плетей заживать не успевают.
Одинец поглядел, куда украдкой указал холоп: в дальнем конце двора разговаривал с обозниками невысокий плотный мужик в щегольской синей поддевке. В обоих ушах приказчика висели золотые кольца.
– Да у хозяина нашего не только дворня стонет, – продолжал конюх, – жена с дочерью тоже по одной половице ходят, дыхнуть боятся. Тут намедни…
Одинец нетерпеливым жестом прервал его болтовню:
– Ты, дружище, не всё, что на уме, на язык пускай. Знать меня не знаешь, а бренчишь как коровье ботало.
– Зловледина! – вдруг вмешался в разговор Илюха, уловивший, что речь зашла о приказчике.
– Чё бы понимал! – конюх вновь легонько шлепнул парня и засмеялся: – Дурында! Временами невесть какую околесицу несет. А порой ляпнет – и в саму суть! Сиди и соображай, кто кого умнее: ты иль он?
* * *
Выезжали под дружный гомон собравшегося на улице народа: возчиков пришли проводить матери, жёны и ребятня. Блажили, заливались младенцы на руках, лаяли собаки. Угловое окно светёлки в доме распахнулось, и Одинец увидел, как в проёме появилась молодая женщина с бледным лицом, укутанная в шаль. Рядом с ней стояла худенькая девчушка, помахавшая купцу рукой. Рогуля чуть взмахнул ответно, пустил коня в рысь и съехал со двора, более не оглянувшись.
На четвертый день пути обоз пересек границу владений московского князя. Начинались тверские земли. В ближайшем селе повозки встречали приставы и мытари князя Александра. Мытари лезли на телеги, пересчитывали тюки, бочки и ящики с товаром. Рогуля с Силантием сопровождали их и до хрипоты спорили о цене лежавшего в ящиках и бочках: мыт платился со стоимости ввозимого товара. Затем, переругиваясь, все ушли на мытный двор. Силантий нёс под мышкой небольшой бочоночек, который позволил все дело закончить к вечеру полюбовно. Обоз двинулся дальше, но остановился на краю села; решили ночевать тут. Мужики сгоняли возы с дороги, распрягали лошадей, пуская их стреноженными пастись на небольшом лугу, за что отдельно было уплачено сельскому старосте.
При съезде с дороги Илюху постигла неудача: воз накренился в придорожной канаве, одна из сорокаведерных бочек выпала, отскочила крышка, из бочонка густой золотистой струей на землю хлынуло пшеничное зерно. Силантий, коршуном налетевший на Илью, отстегал того плёткой и сам лично, разогнав сгрудившихся возчиков, принялся собирать зерно и заколачивать обручи.
– Погоди! – орал приказчик и грозил совсем потерявшемуся пареньку. – Я вечером с тобой посчитаюсь!
Вечером он, действительно, приволок Илью к костру, за которым сидели охранники каравана.
– Ну, ложись, снимай портки, – Силантий, несколько умиротворенный перед ужином, говорил с веселой издёвкой, отчего предстоящая расправа выглядела еще зловещее.
– Может не надо, Силантий, не порть ужина, – попытался отговорить его один из охранников, разбитной малый с небольшим шрамом на скуле, видневшимся из-под легкой как пушок бородки, – с кем не бывает! Ведь обошлось…
Одинец, сидевший у котла вместе с другими охранниками, поддержал Битую Щеку, как называли того все знакомые:
– Брось, Силантий…
Приказчик отпустил Илью и шагнул к поднявшемуся Александру:
– Ты кто такой? Ты что – большим человеком себя считаешь? Думаешь, коль в малолетстве за нашим хозяином объедки подбирал, так у тебя голос появился? Сядь и примолкни, тля!
Приказчик, привыкший к безропотному подчинению холопов, просчитался. Когда Рогуля прибежал на шум, он увидел катавшегося по траве первого помощника и Александра, задумчиво жевавшего травинку.
– Что случилось?!
– Поскользнулся наш Сила Саввыч, – сказал Одинец и, подхватив седло, служившее на ночлегах в поле подушкой, зашагал в темноту. Отходя, он слышал, как кто-то из охранников, наверное, Толстыга, вполголоса бормотал Рогуле:
– … ногой… под коленку… а Силантий свалился, и вот кружит… говорить не могет…
У костра, где сидели возчики, Одинец бросил седло:
– Чего сегодня на ужин?
– Каша с салом… – мужики, видевшие всё произошедшее, уважительно раздвинулись в стороны.
– И тут каша? – Одинец ощупал голенище сапога. – Кажись, ложку обронил…
На постеленный перед ним холст лёг каравай хлеба и четыре ложки – выбирай. Илья, возникший неизвестно откуда у него под рукой, поставил кружку и сказал:
– Дядя Саша, ты подожди чуток: мужики по такому случаю за пивом в село побежали…
* * *
Еще через два дня путники заслышали перезвоны тверских колоколов. Вскоре за широкими полями показался и сам город. Тверь! Одинец вглядывался в открывшийся у волжского простора город: девять лет назад не по своей воле он пришёл в него и не по своей воле покинул. Многое здесь переменилось: град разросся, посад был обнесен вторым частоколом, но между частоколом и окружавшими город лесами уже появились новые улочки, где поселился ремесленный люд и, очевидно, в самом недалеком будущем придется и этот расширившийся посад обносить третьим кольцом ограды. А дальше, за крышами посадских домов, за дымками, тянувшимися из мастерских кожевников, пимокатов, кузнецов, бондарей, оружейников – да мало ли в городе разных мастеров! – виднелись деревянные стены тверского детинца, кремля. Там, в кремле, проживал сейчас главный князь русских земель, ставленный над ней волей далекого великого хана Узбека, или как называют его на Руси «грозного царя Азбяка» – князь Тверской и Владимирский Александр Михайлович.
Одинец опустился в седло, внутренне усмехнувшись на свой высокопарный настрой. Девять лет назад он мельком видел нынешнего правителя; тогда это был белокурый застенчивый вьюнош, терявшийся в окружении сурового отца князя Михаила и старшего брата Дмитрия, неистовых воинов и правителей. Правители, правда, кончили свои дни мученической казнью в ханском Сарае.
«Как-то повернутся дела у этого молодого князя?» – мысли бывшего московского мечника повернули к уже второй день тревожившему его случаю. Той ночью, когда случилась короткая стычка с рогулинским приказчиком (Александр отлично понимал, что в этом шебутном коротышке он нажил себе вечного врага: да вон он мимо проскакивает на своей буланой кобылке, морду воротит, глаза злющие) Илюха, дождавшись когда над их табором повиснет густой храп коновозчиков, придвинулся к неспавшему Одинцу и зашептал:
– Дядь Саша, ты только забожись, что меня не выдашь… Я чё видел!
Он замолчал на краткий миг, но, не дождавшись клятвы, продолжил; видимо, распирало:
– А в той бочке-то, ну, что упала… Там под зерном – оружье и бронь!
– Что ж особенного? – спокойно ответил Одинец. – Везут тайно на продажу. Знаешь, сколько пришлось бы заплатить в казну, если б открыто?
– А-а, – Илюха был разочарован, что все объясняется так просто, – понятно!
Следующей ночью, под самое утро, когда Александру выпало время обходить обоз дозором, он для пробы вскрыл два бочонка: в одном под слоем пшеницы, действительно, оказались несколько самострелов, в другом – десятка полтора мечей. И кое-что Одинца смутило: мечи не могли предназначаться для продажи, ибо слишком проста была их выделка, а рукояти обмотаны обыкновенной сыромятной кожей. Работа была не московской, это точно.
«Повоевать такой железкой денёк-другой можно, а продать – нет», – размышлял Одинец. Знал он и еще: московский князь не поощряет продажу оружия недружественным государям. Неужели Рогуля решился идти против воли Ивана Даниловича? Это было маловероятно. Над загадкой стоило подумать. Хотя, чего думать, голову понапрасну ломать? Его дело получить с купца обещанные деньги, а там трава не расти! Эх, хоть бы знать, как там Мария с дедом справляются? Да здоровы ли малыши? Машутка, Машутка, сероглазая моя…
* * *
В Твери было неспокойно. С того декабрьского дня, когда весь городской люд, усыпав подъезды к Благовещенским воротам, радостно приветствовал вернувшегося из Орды князя Александра, минуло более полугода. Восторги поутихли быстро; конечно, гордость за свою волжскую отчизну, вновь признанную первым княжеством Руси, грела душу, но честь драгоценна лишь для народов благоденствующих. Какая радость городским беднякам, что где-то в каком-то пыльном городе Сарае неведомый писец вытиснил писательной костяной палочкой на золотой дощечке указ великого хана о великокняжеском достоинстве тверского князя? Да и не первый это был для Твери великий князь, как-то попривыкли.
Первым был его дедушка, Ярослав Ярославич, младший брат знаменитого Александра Невского. Тот ещё во времена ужасного Батыя много-много десятилетий назад был назначен во владимирские князья. Но жить он во Владимир не поехал, управлял всем из своей любимой Твери. Во Владимир великие князья теперь заезжали только принять благословение от первосвященника-митрополита. И – поскорей в свою отчину, где, как известно, и стены помогают. А на владимирщине оставался лишь княжеский наместник.
Ярослав Ярославич, посидев несколько лет на главном престоле, застолбил туда дорогу и своему потомству: подошло время – великим владимирским князем признали его сына, а потом и внуков. Не всё, конечно, катилось как по маслу, бывали времена, когда ярлык великих князей уходил на сторону, но рано или поздно он неуклонно возвращался в это семейство.
О превратностях судьбы тверских государей и судила-рядила поздним августовским вечером тёплая компания, собравшаяся в доме купца Гаврилы Поршня. За столом кроме самого хозяина, двух его взрослых сыновей и нескольких приглашенных по такому случаю торговых людей сидел московский гость Егор Рогуля. Егор и Гаврила были давно знакомы, имели общие дела, ходили вместе в обогащавшие обоих походы за Вятку, останавливались друг у друга, бывая проездом в Твери или Москве. Гость уже преподнёс подарки, предназначенные для хозяйки дома и двух снох; раскрасневшиеся от волнения и желания примерить обновки женщины удалились на свою половину, в горнице остались только мужчины. После первых чарок за «благополучный приезд» и «свиданьице» разговор пошёл о делах серьёзных, купеческих, а стало быть – государственных.
– Спору нет, – говорил Поршень, мужчина на пятом десятке, с большим достоинством носивший крупную лысину и расчёсанную на оба плеча пышную бороду, – оттого, что нашего князя хан Узбек отличил и во главе всей земли поставил, тверскому княжеству прямой прибыток. Вот даже нас, купцов взять: где самый большой торг? В Твери! Куда все товары стремиться станут? Опять же в Тверь! Верно ведь подмечено, у кого сила и власть – у того и золото.
Поршень остановился, предоставив возможность сидевшим за столом поднять заздравные чары за князя Александра – «дай Бог ему здоровья!» – и продолжил речь, перейдя к обычной для русского племени заключительной части – за упокой:
– Только палка о двух концах: князь, чтобы ханских ближников подмазать, денег назанимал – двух жизней не хватит расплатиться. И свою казну подмел до рублика, и у нас, купцов тверских, одолжился, и бояр своих порастряс. А когда и того не хватило, к сарайским купцам-бессерменам обратился. А теперь эти басурманы с ним сюда заявились. Как им он долги вернет? Ясно как: кому сельцо уступит во владение, кому какую волость отдаст на время – недоимки собрать. Да что говорить – на базарах и то начинают шишку держать: торгуют беспошлинно, цены сбивают. А нам, честным тверским купцам, как жить? Сплошной убыток…
Рогуля, уже отведавший пареное, жареное и варёное со всех блюд, коими уставили стол гостеприимные хозяева, налегал на напитки.
– Да и в Москве у нас не лучше, – выпитое разлилось ярким румянцем по тугим щекам москвича, – Иван Данилович тоже басурманам мирволит. Их, когда Узбек магометову веру в Орде объявил, столько понаехало! Царь всех напужал, мол, или принимают новую веру, иль – секим башка. Вот и кинулись врассыпную кто старой монгольской веры держался.
– А какая она у них была старая-то? – спросил один из Поршневских отпрысков, как две капли воды похожий на отца, с тою лишь разницей, что там, где у Гаврилы светоносно блистала лысина, Поршень-младший имел очень приличную прическу, густо промазанную лампадным маслом.
– Чёрт их знает. В Тенгри какого-то верили, по-нашему вроде как Бог – Голубое Небо. Да еще и несториан полно среди них было. Эти почти даже християне. В общем, счас куда не ткнись, везде узкоглазые… И средь ремесленников, и средь купцов. И даже средь бояр: Иван Данилович тому, кто познатнее, боярство жалует. Обжились, дворы поставили.
– Это что! – хозяин, низко склонившись над столом, забормотал вполголоса. – У нас того похлеще. Месяца два назад сюда от Узбека приехал целый отряд. Тысяча иль того больше конников. И командует ими двоюродный Узбеков брат Шевкал. Народ его в Щелкана переиначил. Приехали, князю Ляксандру Михайловичу деваться некуда, поселил их в кремле. Там до сих пор и стоят постоем. И сколько уже от них жители натерпелись – страсть! Днями по городу разъезжают, что понравится – берут, не спросясь, баб и девок мы на улицу пускать боимся – враз пристанут и испортют, разбойники.
– А почему князю не жалуетесь?
– Что толку-то? Он сам как чужой на своем дворе, замки с его погребов и амбаров посбивали, едят и пьют на дармовщину. Так что, не в евонной это власти, а когда закончится – одному Богу известно. Это и обиднее пуще всего: ладно мы, рабы Божии, а то ведь – князь! И они его как простолюдина – ангельским ликом да в навоз! Ну, можно ль такое терпеть?!!
Рогуля, с пьяным сочувствием слушавший жалобы тверичей, потянулся к кубку, не угадал пальцами и разлил вино.
– Сюда слушай! – он сделал обеими руками знак, подзывая к себе всех находившихся в комнате. И когда головы слушателей сомкнулись над багровой лужей, расплывавшейся по белой в цветах и райских птицах скатерти, громко зашептал. – Мы, купцы, всегда заедино быть должны. Князья меж собой воюют, их дело! А без нас, хоть московских, хоть тверских купцов, и свет белый стоять не будет. И чего хочу вам сказать, братья: весть имею!
Кольцо лохматых теней на высоком потолке горницы разомкнулось, тени зашевелились, оглядываясь по сторонам, и затем вновь сомкнулись еще плотнее прежнего, когда их обладатели навалились на стол вкруг московского купца.
– А весть эта к нам, – Рогуля не уточнил, к кому это – «к нам», – пришла от верных людей из Орды. Слушайте: намерен этот Шевкал сам сесть на престол тверской. А может, и на владимирский…
– Да об этом уже и у нас поговаривали, – утвердительно кивнул головой кто-то из гостей.
– Вот! – обрадовался Рогуля. – А теперь в точности известно, что собираются татары избить насмерть всю великокняжескую семью и бояр его не далее как в Богородицын день!
– Так это же через неделю! – ахнули тверичи.
– То-то и оно… – многозначительно сказал Рогуля. И добавил, не сомневаясь, что это удесятерит скорость расползания слуха по Твери, – только уж вы, почтенные, обещайте – никому ни слова!
Тверичи на подозрение в болтливости обижено загалдели «Да мы… да никогда!» и начали расходиться, сгорая от нетерпения поделиться новостью с домашними.
Той же и всеми последующими ночами на постоялый двор, где остановился Рогулинский обоз, под покровом темноты стали приходить какие-то таинственные люди. Они шушукались с Силантием, приказчик вел их к бочкам, отсылал сторожей, и вскоре незнакомцы исчезали, сгибаясь под тяжестью длинных свертков.
* * *
Московитяне остановились на гостевом дворе поблизости от главного торжища Твери – обширной замусоренной площади, что одним свои концом примыкала к крепостному рву кремля, а длинной стороной шла вдоль берега Волги. Телеги загнали от дождя (хотя какой дождь, на небе уже месяц ни облачка) под навесы, обозный народ поселился в двух легких дощатых балаганах, устроенных подальше от основных хором и, главное, подальше от сеновалов и конюшни.
Днями мужики выезжали на базарную площадь, торговали прямо с возов под неусыпным оком Силантия, поздно вечером возвращались, варили на печах устроенной рядом летней кухни уху из дешёвой сорной рыбы – окуней и карасиков, засыпали заполночь. На постоялом дворе было людно и шумно; кроме московских тут остановились обозы из Суздаля, Ярославля и еще каких-то «низовских», как говорили тогда, городов. Предводители караванов, именитые купцы, жили «в хоромах» – большом, на три уровня, доме, где по вечерам шла своя жизнь. Там устраивались договоры и сделки, продавались и покупались купно такие объёмы товаров, что от выплачиваемых за них сумм перехватывало дух. Чуть не до третьих петухов то в одной, то в другой светлице звучали дудки и бренчали гусли, а за окнами с распахнутыми настежь ставнями виднелись пляшущие девки.
Обозные мужики вниманием женского пола тоже не были обделены, вокруг постоялого двора всегда крутились верткие пареньки, предлагавшие сводить путешественников «до бани», а коль торговцу недосуг, бравшиеся устроить приход тех «банщиц» прямо под телегу иль на сеновал. И брали недорого.
– Ты как насчет бабы? – предложил Битая Щека в первую же ночь сменявшему его на карауле возле возов Одинцу. – Есть тут одна, я уже покувыркался. Эй, Машка, лезь сюда, – негромко позвал он.
С подстеленной под телегой соломы поднялась полненькая девка лет пятнадцати-шестнадцати с подведёнными бровями и нарумяненными до красноты кружочками на щеках.
– Ну, покажь купцу, чего у тебя там…
– Ой, купец… И не купец он вовсе.
– Давай, не ломайся, деньги у него есть.
– На! – девка до самой шеи задрала мятый сарафан, открыв перед Александром широкие белые бедра и маленькие стоячие груди. Одинец, не ожидавший такого бесстыдства, сначала изумился, а затем принялся хохотать.
– Чего он хохочет, – обиделась та, опуская подол, – чего хохочет?
Одинец, сдерживая смешок, протянул девке монетку-резану:
– Хороша Маша, да не наша, – он снова прыснул в нос, – на вот, возьми за погляд, да за то, что я, старый дурак, растерялся… Жену у меня тоже Марией, Машкой зовут. Ты уж извини, девонька, а слаба ты против нее, хоть и моложе вдвое. Ну, бери, и чтоб духу твоего тут не было, беги, пока я тебя по голой твоей… м-м-м… подворотне… ремнём не отстегал.
– Силён! – сказал Битая Щека, глядя на удиравшую во все лопатки девку. – Домой вернёмся, в гости пригласишь? Хочется в те глаза посмотреть, что так привораживать умеют.
– Вернёмся, приглашу, не забоюсь. Хоть ты и вдвое меня моложе, орёл и хват-парень.
– Ну, не вдвое, конечно… Слушай, а чё, вот так-таки за всю жизнь на другую бабу и не позарился?
– Нет.
– Ни разу? – не унимался настырный наперсник. – А почему?
– Не хотелось.
– Силён! – повторил Битая Щека и ушел спать.
* * *
Когда много позднее в Твери люди вспоминали события тех дней, решивших участь княжества и судьбу русской столицы, все сходились в одном: началось всё с пустячка, с мельчайшего события, подобного тем, что происходят каждый день – и ничего, проходят без следа. А тут… В общем, рассказывали так: будто жил в Твери дьякон по прозванию Дудка, а некоторые говорят – Дудко. Жил он в небольшом крытом соломой доме, даденом ему епархиальным владыкой Христа ради, чтобы было где дьякону разместить свою матушку и пятерых ребятишек. Был Дудко беден: церквей в городе много, прихожан на каждую приходится мало, откуда же богатство?
Дом его стоял окнами на рыночную площадь, а задами своего двора, огородом выходил к Волге. Вот на близкую реку и повел Дудко утром злополучного дня свою кобылку-трехлетку испить водички. Можно сказать, завернул по дороге, потому что мог попоить скотинку и в ограде, но он её как раз сегодня собирался продать. Лошадь была, говорят, загляденье, хорошая кобылка. И рассчитывал дьякон получить за неё на торгу хорошие же деньги, благо, что выждал до праздничных дней, когда народу в город съехалось множество.
Ну, пьёт кобылка, хвостом обмахивается, Дудко рядышком стоит, рясу за пояс подоткнул, портки закатал, ноги полощет. И откуда ни возьмись – три татарина из Щелкановой дружины; кто говорит – было четыре татарина, да это неважно. Чего, спрашивается, татарам ранним утром на речке делать? Вечером-то, понятно: уставшие от безделья и бражничанья (веру в Магомета золотоордынские нукеры приняли только недавно, а привычки были давнишние) сыны вольных степей просыпались обычно не раньше полудня. И снова шли бражничать да искать приключений. Эта невесть откуда свалившаяся троица свое приключение нашла поутру.
– Эй, урус, – сказал один из золотоордынцев, – коня дай.
А, может, и не сказал он так, может, просто повелительно помахал нагайкой, может, и по-русски басурман, изъясняться не умел, хотя это вряд ли. Тут опять среди очевидцев сплошные разногласия: одни говорят, что славные воины великого хана кобылку у хозяина просто отобрали, другие – что мало посулили. В любом случае дьякону показалось, что он упускает выгоду, и потому вцепился отче Дудко в конскую уздечку намертво, а когда татары применили крайние способы убеждения, упал несчастный пастырь на колени и, оборотя перемазанное кровью лицо свое к находившимся рядом единоверцам, прокричал сквозь слезы:



