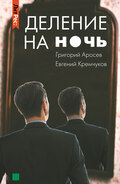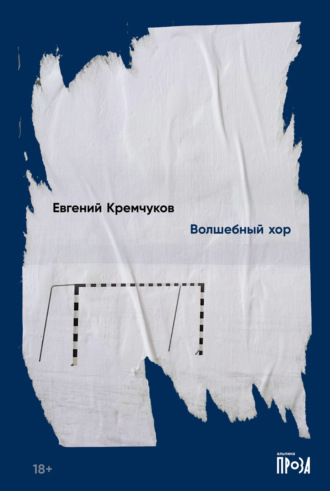
Евгений Кремчуков
Волшебный хор
Глава 5
Точка бифуркации, иначе говоря – развилка
Осень году тому выпала совершенной. По идеальному сценарию, расписанному где-то в неисповедимой небесной канцелярии, в неких высших метеорологических сферах, в первую сентябрьскую неделю город будто остался во второй половине августа – разве что ночи, соответствуя календарю, сделались чуть прохладнее. Затем на день-другой приоткрыли осеннюю картинку: пасмурно, дождь, приглушенный свет, – но и самые эти дожди все равно шли теплые и какие-то даже ласковые, а потом сразу распахнулась над миром вся нежная красота русского бабьего лета.
Тепло стояло до самого конца месяца. По утрам, прежде восхода солнца, пока небо было затянуто не то сумерками, не то облачной дымкой, иногда казалось, что мир застыл в каком-то странном, равновесном и равновозможном промежутке – и самое легкое дуновение ветерка способно было непредсказуемо качнуть весы как в сторону грядущей осени, так и к прошедшему лету. Но вставало солнце, и падал жребий, и все оказывалось прежним, лишь едва-едва заметно проступала желтизна на листве каштанов в парке. Лето все еще было здесь, будто в утешение и воздаяние за проведенные в экзаменационном цейтноте – сначала выпускном, потом вступительном – июнь-июль.
Да, жизнь неприметно по дням, но неотразимо по годам изменилась. Казалось, все еще было прежним: те же дома стояли по тем же улицам, те же люди заходили в них вечером и выходили с утра, из домов же с иными номерами наоборот – выходили по вечерам, чтобы к утру вернуться… Все это длилось, длилось и повторялось, кружась, неуловимое, неизменное, но неуловимо меняющееся. Отрочество сменилось юностью, пусть и нельзя было угадать, разглядеть одной между ними границы, черты отсечной, рубежа; а вот тектоническому сдвигу эпох, совершившемуся при них, была точная грань – двухлетней почти давности. Два года назад в это время они были еще советскими школьниками, а теперь, в нынешнем сентябре девяносто третьего – российскими студентами. Два года назад сражались на спичках (отобранные военачальниками полки русских княжеств напротив лучших монгольских туменов – богатыри и багатуры, сталкиваясь в противоборстве и упорстве, в давлении и сопротивлении, выясняли, чья из них порода крепче); а уже следующей осенью им предстоит постигать современные мотострелковые науки на университетской военной кафедре. Теперь же Протасов рассказывал Баврину в курилке истфака на третьем этаже, что задумал писать «Четырнадцать блистательных сражений» – и начать, пожалуй, с битвы на Калке в лето одна тысяча двести двадцать третье от Рождества Христова.
– И что же в том страшном и жутком разгроме блистательного-то, Миша? – вопрошал друга Баврин.
– Ну, тут чьими глазами смотреть на разгром, да? С восточной стороны это была просто хирургически выверенная победа мудрых и хитрых Джебе и Субэдея над втрое-вчетверо превосходящим войском, в чужих, заметь, и совершенно неизвестных им землях.
– То есть кровь твоих собственных предков, горечь поражения…
– Подожди, – перебил друга Протасов, – кровь моих предков вообще-то с обеих сторон могла течь – кто это сейчас нам точно скажет?.. Если что. И потом, Митя, я историк, а не идеолог. Меня интересует чистое военное искусство. Объективное, независимо от его национальной принадлежности. Единственная правда, единственный идеал историка – это верность истине, понимаешь? Разве нет? Не стране, не народу, не морально-этическим или патриотическим каким-то теориям и аксиомам – истине.
– С этим не поспоришь, – помолчав, ответил Баврин. – Однако хочется, знаешь, ответить тебе словами Пилата.
Еще два года назад они сбегали из школы на пески – дуэлянты, корнеты, виконты, – похищая с уроков таких недотрог: то Соньку, то Настасью; а теперь и после лекций, и после субботних библиотечных штудий, и когда только ни находился удобный случай – неуступчиво увязывались вдвоем провожать до дома Ниночку Сперанскую из одиннадцатой группы. Каждый из них норовил оказаться поближе, но красавица не по летам мудро и спокойно держала границу своей доброжелательности и интереса на равном расстоянии для обоих.
Два года назад их жизнь – бытовая, во всяком случае, ее сторона – была отмерена карточками на хозяйственное мыло и мыло туалетное, макароны, колбасу, масло, сахар, соль. А теперь господа студенты могли позволить себе и другие картонки – расписать, скажем, пулю в преферанс по копеечке на большом перерыве.
Два года тому, собравшись великолепной четверкой – мушкетеры, гардемарины, декабристы, танкисты, – топали, бывало, промозглым вечером на рок-воскресенье в ДК железнодорожников, где Боцмана, неплохо державшего в руках бас-гитару, звали иногда сыграть то в ПФКФ («Призрачный Флот Капитана Флинта» – гордо пояснял он друзьям), то в какие-то совершенно невероятные «Волосы В Носу»; теперь же выпускное лето развело тайное их общество: Боцман поступил в Гнесинку и жил в Люберцах у двоюродной тетки, Лехман укатил за славой в Рязань – в десантное свое училище, и в добром старом Энске остались только Баврин с Протасовым.
Два года назад – чуть меньше двух: зимой десятого класса, в декабре том, в январе? точно не припомнишь, – они смастерили, было дело, бомбочку; ну как «они» – соорудил-то ее по какому-то секретному, неизвестно где им разведанному рецепту Мишка, но испытывать «изделие» темным зимним вечером собрались и отправились на пустырь за общежитием пединститута, уж конечно, все вместе. Небольшой, в полкулака, обмотанный изолентой шарик швыряли сначала о заледеневшую землю – однако устройство никак не срабатывало. То ли присыпавший снег гасил силу удара, и мелкие внутренние камешки «взрывателя», столкновение которых должно было дать необходимую искру, сталкивались недостаточно… мм, ударно, недостаточно удачно. То ли товарищи, без умолку болтая, говорили под руку и сбивали настрой. То ли что.
– Дай я покажу!
– Подожди, не так надо!
– Да вы не умеете просто, смотрите!
– Дураки, учитесь, вот!
Но ничего не выходило, и раз, и другой, и …надцатый. Ни у того, ни у другого – ни у кого. Тогда они принялись бросать бомбочку в стену общежития – ближе к углу, подальше от светящихся окон. С тем же, собственно говоря, результатом. Перепробовали все, начали уже подмерзать, дело наскучивало, разочарование росло.
– Ерунда какая-то.
– Похоже, не сработает.
– Лучше бы у дедов в части гранату сторговали.
– Пошли, ладно, зуб на зуб уже.
В общем, все они, включая самого народного умельца Протасова, разуверились и развернулись, собираясь идти обратно к кому-нибудь в подъезд греться. Так уж, для проформы, наотмашь, напоследок Мишка швырнул еще раз свою неудавшуюся бомбочку в стену. А стена в ответ вспыхнула так резко и ярко, громыхнула так дико, что почудилось им, сейчас рухнет вся пятиэтажка. Ох, как они чесали через тот пустырь, четыре мелких дичка, четыре оглушенных зайца! Как из всех ярко горящих вечерних окон, казалось им, выслеживали и указывали на них – глядите, вон они, бомбисты, давай за ними, хватай головорезов, в милицию звони, смотри, куда бегут!..
Но обошлось тогда, никто их не заметил или не разглядел в темноте, никто не приходил в школу их разыскивать, и только огромное, с метр в диаметре, черное пятно на стене пединститутской общаги и через два года еще напоминало об отчаянном зимнем испытании новейших вооружений.
Теперь же, два года спустя, они уже обсуждали внутреннюю, и внешнюю, и опять внутреннюю политику юного российского государства – не на политинформации перед первым уроком, а на переменах в курилке. Куда же еще было им идти учиться в те годы, как не на исторический?.. И Протасов, и Баврин чувствовали себя вроде как подводниками, поднявшимися на поверхность в субмарине, что годами бороздила таинственные глубины, загадочные затерянные миры их детства и отрочества, и теперь вдруг распахнулся люк в такую – о, эпическая сила! – бурю, мглу, хлесткую круговерть, в океанский шторм, смешавший единые темные воды и черные небеса, в тяжелый крен Истории, ревущей, грохочущей и перекраивающей самоё систему координат.
В тогдашнем сентябре споры их маленького кружка разговорщиков в сорвавшейся с орбиты стране крутились вокруг одного и, казалось бы, того же: кто виноват? что делать? куда мир катится? Едва ли не каждого из них, из шумной той компании, собиравшейся в курилке на переменах, не покидало ощущение какой-то неисправности: происходящее, дескать, происходит так-сяк-наперекосяк потому, что в какой-то момент была где-то в чем-то совершена ошибка, в поворот свернули не в тот или нужный пропустили; а вот если ошибку обнаружить и исправить, всех виноватых вычислить и примерно наказать… – тут-та, Карлсон, мы и заживем!
– Ребят, но почему, зачем мы всю дорогу начинаем с виноватых?! – размахивал в толпе рукой с папиросой Лева Штейн, третьекурсник. – То есть нам отчего-то надо всегда сначала поставить того или другого к стенке, как будто это что-то исправит. Ну давайте объявление еще дадим в «Из рук в руки»: «Ищу виноватого!» Легче станет? Да не станет! Другой, другой вопрос потому что должен возникать в самом начале, чтобы другой триггер первым срабатывал – не «кто виноват?», а «что делать?»…
Все персонажи этого воспоминания выступают из серого небытия и клубов табачного дыма – и то один, то другой силуэт поочередно вступает в прения, будто в тесный кружок тусклого света.
Вот Толя Волков, высоченный и худой, как верста, рыжеволосый, делает шаг вперед и говорит:
– Превосходная мысль, Лева. Но она превосходит в том числе и реальную действительность, понимаешь? Потому что и ктовиноваты и чтоделати у всех одинаково разные…
– Но!.. – Штейн опять вскидывает руку, пытаясь ворваться внутрь волковских слов.
– Нет, не «но»! – перехватывает его порыв предыдущий оратор.
– Лева, он прав, – выступает поддержать друга и неизменного спутника Толя Зайцев. В отличие от рыжего и лохматого Волкова, он выбрит под Котовского. Что-то есть в нем эдакое успокаивающее, основательное. Кстати, согласно легенде, включенной в устные анналы мифов, былин и небылиц истфака, этих двоих вообще ни разу за все пять лет с первого курса не видели в университете порознь. Ни разу. Что ж, разумеется, вместе они и здесь, в нашем воспоминании. – Мысль твоя понятна, дружище. Ты имеешь в виду, что первоначальной установкой, интенцией должна быть не деструктивность «вины», а конструктивность «решения», ну или поиска решения, так?
Штейн кивает.
– Однако принципиальная проблема несколько в другом. Она глубже и фундаментальнее. В разброде и шатаниях – именно это как раз сейчас и происходит. В том, что голос и мнение есть у каждого; и по принципам нового гражданского общества всякому дана возможность высказаться; и этот всякий считает, что его голос равновелик любому другому, и мы получаем в итоге не мелодическое, управляемое, стройное единство хора, который ведет ту или иную, но общую все-таки песню, а получаем ровно то, что сейчас творится, – смуту всю вот эту, гвалт восточного базара…
– Ну а что, разве не справедливо, чтобы голос был у каждого? – Обыкновенно перваки тихо смолили и помалкивали в таких дискуссиях, но в тот раз Протасов не удержался, влез со своим вопросом. – Справедливо же. И потом – почему мы думаем, что причина в какой-то ошибке? Может, ошибки нет никакой, может, все это совершенно естественная динамика. Нет ошибки, нет виноватых; как у лесного пожара – молния ударила. Это и есть наше время – молния, да? Вот они, наши прекрасные девяностые, мы за них в ответе – и перед собой, и перед старшими, и перед младшими, и перед историей, наконец. И действовать в них, в этом огне мы должны решительно, отважно и браво. А раз так – почему не может иметь свой самостоятельный голос и свое самостоятельное действие каждый из нас? И выбор по своему внутреннему голосу, и действие в соответствии с этим выбором? А сильного и победителя определит время.
– Ты говоришь о справедливости и идеалах… – Толя Волков опять начал, но едва заметно запнулся, а продолжил за него его дуумвир:
– Миш… Миша ведь, да? Ты нарисовал перед собой такую романтическую картину. Но… тут дело в том, что мир не слишком справедлив. В принципе. Можно, конечно, сокрушаться, что реальная жизнь далека от тех или иных идеалов… Однако это не хорошо и не плохо. Видишь ли, иногда и иногде-то несправедливость играет и на нашей стороне. Иногда и мы получаем то, чего не должны были бы получить – если бы все по справедливости было, – Зайцев улыбнулся. – И думаю, на дистанции это как-то… уравновешивается, что ли.
– Толь, – выдвинулся в круг света и Баврин. – А кто же должен управлять – как ты сказал – единством хора?
– Тут уж как сложится, – начинает один. – Подчас считается, что сами хористы выбирают такого… хорега, дирижера. Но мне кажется, что это выбор – времени, эпохи, а не людей.
– Ты никогда не обращал внимания?.. – продолжая, берет слово другой. – В лесу или в роще, в сквере даже, когда и ветра, кажется, нет совсем, ни дуновения – а несколько листов у клена или тополя, липы, неважно, вдруг начинают сами собой колебаться; соседние листы неподвижны, на одной веточке с этими, рядом, а несколько, ну сколько их там, два, три – они словно бы оживают сами собой, да?.. Тогда начинается ветер. – Звенит звонок, и они бегут по аудиториям – туда, в серое небытие за пределами воспоминания и взгляда. О чем-то, как обычно, не договорив, что-то, как всегда, оставив на следующий перекур.
В пятницу в конце сентября были эти разговоры; на оба прохладных, но еще погожих выходных Митя уехал помогать родителям по даче. А утром в понедельник Протасов на факультете не появился, зато после обеда вместо внука пришла баб Таша. Она ждала Баврина перед большим перерывом у дверей поточной аудитории, маленькая, седая и растерянная.
По ее словам, в пятницу вечером Миша рассказал, что звонил Косте Кораблеву, этому вашему Боцману, в субботу же наутро взял билеты на московский поезд и уехал в напряженную, закипающую столицу. Сказал, что проведет там у Боцмана выходные, может на день-другой еще задержится, обещал ей от Кости позвонить, рассказывала баб Таша. Но в воскресенье она звонка от внука так и не дождалась, а сегодня утром приходила соседка и рассказала, что ее невестка ехала с Мишей одним поездом и видела, как на первой же станции за городом милиция сняла с поезда по разным вагонам десятка три молодых мужчин – и Миша Протасов был как раз среди них. Наташа Петровна попыталась от доброхотной соседки позвонить в тот райотдел, выяснить хоть что-то, и в городское управление она ходила сегодня в самую рань, однако и там и там ей сказали, что информации о подобных задержаниях у них нет, время, сами видите, какое – скомканное и смутное, и наверняка все, бабушка, в ближайшие дни само собою как-то прояснится.
Баврин, как мог, попытался внушить баб Таше уверенность в том, что разобраться и найти Мишку будет делом несложным. Предупредил однокурсников, зашел в деканат («по семейным обстоятельствам надо»). Потом проводил старушку домой и, уже оставшись один, понял, что уверенности нет вообще никакой. Что теперь, ехать в райцентр искать следы Протасова? Так там, скорее, сам же и сгинешь. Единственное, что ему пришло на ум, – пойти за советом к Левитину, их школьному математику. У Петра Михайловича, он рассказывал по случаям из жизни, брат служил в областной прокуратуре и в высоких, кажется, чинах. Возможно, с этой стороны имелись какие-то шансы разузнать о Мишкиной судьбе.
Митя забежал в гимназию, еще привычно просмотрел внизу расписание, поздоровался, с кем повстречался; и стены, и воздух, и люди – здесь все так живо помнило его, и он сам пока ничуть из этих стен, и воздуха, и людей не вырос. Так же вихрем вознесся по лестнице на второй этаж, попросил разрешения позвонить из учительской – Михалыч оказался дома; жил он в десяти минутах неспешной ходьбы, которые Баврин влет преодолел за пять. У парадного, правда, отдышался, оправился и пятерней чуть выправил прическу – все же проходил он теперь по студенческому, взрослому разряду, а не мальчишкой-пострелом. Левитин принял его очень дружелюбно, позвал в гостиную, стал было расспрашивать о новой жизни, учебе и прочем, но Митя, извинившись, сообщил, что пришел, в общем-то, с единственной целью – за помощью. Рассказал все вкратце; Михалыч кое-что уточнил, сделал в блокноте несколько записей и пообещал сегодня же встретиться с братом.
– Надеюсь, что удастся что-то тут сделать, – очень серьезно сказал учитель. – Главное, чтобы Миша…
– Что? – спросил Баврин, так и не дождавшись окончания фразы.
– Не знаю что, – помолчав, ответил Левитин. – Время сейчас злое и на глупости скорое. Страшное время. Я позвоню, Митя, если удастся разузнать.
Левитин, кстати, тогда не позвонил. Но в среду, двадцать девятого, Протасов появился перед первой парой, как ни в чем не бывало. Неохотно рассказал, что три дня его держали в милиции: три допроса и один вчера серьезный разговор. Потом отпустили – что, как, почему, он и сам толком не знает. Подписку о невыезде взяли, дали справку для деканата, что находился в рамках проведения оперативно-разыскных каких-то уж там мероприятий.
Помогли ли чем в этом счастливом разрешении хлопоты баб Таши, Мити Баврина, Левитина ли, левитинского ли брата, или само уж оно сложилось эдаким более или менее благосклонным образом – так и осталось неизвестным.
Глава 6
Сто восемь миллиардов
Да, именно столько. Задумывались вы над этим или нет – именно столько людей жили на Земле за всю историю человечества. Сто восемь миллиардов. Или около того – точного числа, конечно, никто не назовет. (А вернее, можно назвать любое число этого порядка – и оно будет точным, если вы понимаете, о чем я.) Вот столько нас – всех вместе, не разделяя на мертвых и живых. Когда я не так давно, несколько лет назад, обнаружил по случаю это число и пытался вообразить себе, насколько оно велико или мало, как вообще может оно выглядеть, мне представилось, что за каждым из ныне живущих – из тех, чьими копошениями, движениями, голосами заполнена сей час поверхность планеты, – за каждым из этих семи с чем-то там миллиардов идут, сцепившись паровозиком, будто на утреннике или на полуночных танцах в развеселом клубе, еще четырнадцать человек. Четырнадцать нас. За каждым из нас – включая младенцев в материнских утробах. Первые, ближние в этих цепочках – еще вполне себе кости; от тех, что к середине, осталась лишь пригоршня праха; от самых же последних – только тень, дуновение ветра…
А можно, например, подсчитать иначе. Взять вот, кстати, хоть наш добрый старый Энск, заштатный по современным меркам городишко всем населением в треть миллиона. Не три миллиона, не путайте – треть! И когда – следим за мыслью внимательно! – в каждом из жителей нашего доброго старого Энска мы откроем внутри, как матрешку, такой же еще город Энск со всеми его тремястами тридцатью тремя тысячами горожан – тогда общим числом этого тайного внутреннего населения и будет все человечество от начала времен до сего дня, от мала до велика. Энск энсков человек, математически говоря. Самому мне, по чести сказать, второй вариант воображения кажется даже более удачным: мне нравится, что в нем все люди настоящего времени с людьми прошлых времен перемешаны до неразличимости, кто там кого держит за руку, целует, обнимает, к сердцу прижимает или что.
Потому что так оно и есть – как ни крути, нет границ между нами. Я мог бы много тут говорить еще о человеке во времени, о непрерывности истории и прочем, и прочем, и прочем. Но зачем? Мы и так прекрасно понимаем друг друга. Достаточно того, что дед мой с бабушкой где-то там же, что и сотник из экспедиционного тумена Субэдей-багатура, и Алиенора Аквитанская, где и ваши прадеды с прабабками, и пожилая болдинская крестьянка, что носила молодому барину по утрам свежего молочка осенью тридцатого, и афганский пастух, и юноша-шайенн – на него мы смотрим отчего-то не сбоку, как на многих иных, а со стороны ночного и звездного неба, которое и сам он разглядывает, лежа спиной на еще не остывшей от долгого летнего солнца, доброй, с давнишних детских игр приветной скале.
Каждый из них жил – и каждый никогда больше не повторится. Такое множество похожих и совершенно разных людей, со сходными и отличными одна от другой судьбами; людей, вместе с тем непостижимым образом одинаково смотревших из глубины ночи на прорисованную лунным светом занавеску. Да, любой из всех может быть воображен – в известной, в безвестной ли своей судьбе. Но сколько там будет от него в этом воображении, а сколько от меня самого, воображающего?
Томас Нагель, мы помним, задается вопросом: каково быть летучей мышью? – и по долгом размышлении обнаруживает, что у нас нет и не будет возможности на подобный вопрос ответить. Но это еще ладно. Можем ли мы ответить, скажем, каково быть тем безымянным сотником Субэдеевым, пытливо разглядывающим очередную – бессчетную на бесконечном пути – речушку и долгое поле за нею? Кто-то способен отождествиться с ним? Или вот с тем седовласым – кто он там: фракиец, афинянин? – стариком, изгнанником, греком, что стоит у борта триеры и смотрит во взбиваемую веслами вечную глубину моря Ио? Да и что настолько вдаль глядеть – могу ли я сам ответить, каково быть моим отцом? или моей матерью? а моей сестрой? Которой у меня нет.
Поэтому мы и несемся сквозь поток времени и газировки каждый один, каждый в своем пузырьке – бывшие и настоящие, реальные и вымышленные. Поэтому и получается, что человечество – уравнение, где сто восемь миллиардов неизвестных. И я совсем не противоречу себе. Потому что порознь ли, вместе ли, все равно одно единое мы здесь – и те, кто, подобно нам с тобою, Дмитрий Владимирович, пока наверху, где голос звучит и сияет свет, и те, из кого составлена подземная часть одушевленной горы. В картине сей, мозаике, мелодии – ничего нового; сто восемь миллиардов стежков, щелчков, мазков. Огромный и странный бутерброд из биологии и мифологии – вот оно все, это ваше человечество.
Что ж, еще немного жизни теперь написали, подумал Баврин, раскладывая кусочки сыра по бутербродам. Затеяли вдвоем будущее это письмо – первые знаки, первые строки, хромосомы, что там, молекулы ДНК. Сложились, если так можно сказать – чтобы дать возможность новому сознанию совершиться в мире. Все мало-помалу предначинается в этой истории – еще одной плюс к ста восьми миллиардам, той, чей крохотный зародыш спит пока перед входом в общее наше жи́тие и растет во сне, обрастая будущим собой. Риты внутри.
Странно, но в прошлый (то есть в первый) раз все было иначе – самосовершилось как будто без особого их с женой участия, сколь бы комично это ни звучало. Само по себе, от них в стороне – так небо меняет цвет по часам, так вращается год вокруг солнечной своей оси… Ему сколько тогда было – двадцать девять, еще не тридцать даже, а Рите едва исполнилось двадцать, она сама-то дитя, смех один. Ту минуту, когда она ему сказала, – о, ее он помнил прекрасно! А вот последующие за ней семь-восемь месяцев – просто вылетели напрочь, будто и не было их вовсе. Не обнаруживалось в памяти совершенно ничего – что, как, были ли они, дни и месяцы те, вообще или он сразу через час забирает в Красном Кресте двоих, куда сдавал одну? Недавно выяснилось, кстати, что и Маргарита тоже ничего из того первого опыта не помнит. Будто и для нее взаправду сейчас это все как-то в новинку и в диковинку.
Однако – если, конечно, верить на слово шести-с-половиной-летнему заявлению, сделанному однажды на полном серьезе за воскресным семейным завтраком, – однако память о тех месяцах сохранилась у того, от кого меньше всего можно было бы такого ожидать, – у Егорки. «Помню, как я где был» – так он выразился. Началось с того, что ребенок, безаппетитно почерпывая ложкой жидкую кашу и лениво спуская ее обратно в тарелку, посчитал нужным уведомить взрослых, будто полагает неверным расчет своего – а за своим и любого – возраста. Дескать, правильно было бы вести отсчет не со дня появления готового малыша из маминого животика на свет божий, а со дня появления в этом самом животике души живой и божьей искры. Согласны? На возражение Риты, что внутри животика он был еще не самостоятельный человек, а только часть мамы, юный философ ответил, что уже и тогда осознавал себя и – ergo – существовал. (Разумеется, таких именно слов Баврин-младший в те времена не знал, это уж нынче отцовское сознание столь витиеватым образом выражало те давние детские мысли; но что сами мысли были именно таковы – тут Дмитрий Владимирович готов был дать голову на отсечение!..)
– А вы, молодой человек, – обратился Баврин к сыну, – подтвердить это ваше осознанное существование можете чем-то? Чтобы мы с мамой могли, так сказать, с чистой совестью вам эти семь-восемь месяцев накинуть. Иначе придется пока слушать старших, подчиняться дисциплине и кашу все-таки доедать.
– Могу и подтвердить, – уверенно ответил сын. – Помню, как я где был.
И рассказал, что помнит прекрасно бабушку и дедушку, хотя никогда в жизни своей их не видел. Однако Рита, будучи уже в положении, то есть – с ним, летала в том году к родителям через Москву. И вот теперь Егорка ничтоже сумняшеся сообщил, что помнит и то, как они ехали с мамой по земле, и как спускались в глубину под землю, и поднимались обратно на свет, и летели по небу. Как тепло и молочно обнимала бабушка, а ночью плакала тихо, что свеча, без хлипов, в приглушенном свете спальни; как пахло дедовым табаком и лекарствами и тянуло из форточки сыростью, прелой листвой. Каким темным и зеленым было пальто тети Маши, когда она нас встречала, разве ты не помнишь, мама, с широким таким пояском?
– Но откуда… как ты мог это видеть-то, Егор? – Рита, конечно, не помнила, каким там именно было сестрино пальто, но сам рассказ сына поразил ее независимо от того, насколько точным в деталях он был. Она странно засмеялась. – Через животик мой, что ли, видел? Через кофту насквозь? Через пуховик?
Егорка, шести тогда с половиной лет от роду, взглянул на нее так, будто ну невозможно же на самом деле не понимать настолько очевидных вещей.
– При чем тут вообще живот, пуховик? Через глаза твои, мама, – сказал.