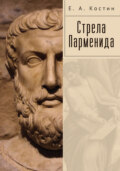Евгений Костин
Пушкин. Духовный путь поэта. Книга вторая. Мир пророка
Здесь же надо заметить, что авторы статьи являются одними из видных исследователей в русском языкознании проблем, связанных с русской языковой картиной мира. Книга, из которой приведена данная цитата, полна самых глубоких и справедливых наблюдений на этот счет. И полемизировать автору данной работы не представляется возможным по несовпадению собственно предметов исследования (язык и аспекты национальной эпистемологии).
Правда, подобное решительное указание о «неверности» научной проблемы, как это сформулированно именно у авторов данной статьи, а не у А. Вежбицкой, делается в устаревшей форме позитивизма XIX века («национальный характер»), и тут же опровергается следующим комплиментом польскому ученому: «Оригинальность метода Вежбицкой состоит в том, что она идет в противоположном направлении. Анализируя семантику значимых единиц языка (слов, конструкций, морфем) она обнаруживает скрытые свойства человеческой природы, которые при этом оказываются различными у людей, говорящих на разных языках. Таким образом, национально-специфическое в значении единиц данного языка оказывается материалом, на котором может основываться исследователь «национального характера» [3, 188].
Обратим внимание на то, что почти нигде в своих работах А. Вежбицкая не употребляет выражение «национальный характер», предпочитая говорит о «ментальных особенностях» народов, представляющих тот или иной язык. При этом ее анализ основан на глубоком проникновении в семантические и грамматические особенности языка с учетом того, как он формировался на протяжении достаточно длительного времени (явно выраженный исторический подход).
Те примеры, которыми оперируют в своих статьях вышеуказанной книги российские авторы, большей частью основаны на результатах изменения лексики и семантических значений русского языка в основном в ХХ веке и совершенно не учитывают первоначальные этапы формирования языка, в которых и происходила кристаллизация базовых признаков языкового отражения действительности.
Речь, конечно, не идет о том, чтобы вывести из языка набор черт и свойств того, что так старомодно названо «национальным характером», вопрос в другом (для автора данной книги): насколько мы можем опираться на некоторые аспекты языкового сознания того или иного этноса в его продвинутой форме (с развитым литературным языком, с созданным на его основе художественной литературы мирового уровня) для определения того своеобразия, которое так очевидно и бросается в глаза каждому непредвзятому исследователю.
Пушкин совсем не Байрон, Толстой совсем не Бальзак, а Достоевский не Джойс и так далее по списку. Может самый замечательный пример такого возможного сопоставления – это Бродский, гениальный поэт и блестящий эссеист на русском, и всего лишь талантливый, остроумный публицист на английском (не будем даже говорить о его стихотворным опытах на английском языке). Особый пример В. Набоков, но его «Лолита» на английском и русском это два разных дискурса и два разных произведения, сводимых воедино всего лишь идентичностью сюжета и действующих лиц.
Разделение культур и, соответственно, народов, конкретных людей проходит по этим зыбким и меняющимся границам каждого национального языка, в котором запрятаны история становления самого этноса, развитие его культуры во всех аспектах, становление его ментальности, формирование психологических особенностей характера, проявление всего этого в труде, поступках, духовной жизни и выражающий свое отличие от другого этноса прежде всего и самым явным образом через язык.
Опредмечивание языка в сознании, конкретной деятельности человека, в создании государства (мы пока еще на этом этапе эволюции цивилизации можем говорить об этом), его роль в проявлении основных черт и структуры исторической жизни народа – все это во многом определяется через языковую картину мира и в результате в ней фиксируется.
* * *
В итоге сама развившаяся эпистемология русского языка, тесно соприкоснувшаяся с запечатленной через нее же историей народа – от летописей до текстов Пушкина, Толстого, Достоевского и Чехова, заставляет исследователя сформулировать некую формулу русской мысли так, как она наиболее полно и универсально отражает не только основные правила ее осуществления, но и показывает тенденции, по которым она собирается развиваться в дальнейшем. Очевидно, что семантическая и грамматическая структура русского языка тесно связаны со становлением ментальных и религиозных особенностей сознания русского человека. Этот язык, опирающийся во многом на древнегреческую основу, воспринятую им через Византию при посредничестве равноапостольных Кирилла и Мефодия, породил так называемый восточно-европейский Логос — известным образом самодостаточную и завершенную в своих основных мыслительных константах концепцию осознания бытия. Но скорее всего, слово концепция как раз здесь наименее подходяще, лучше было бы это обозначить как некую «эйдологию», в которой наряду с явными, вычленяемыми «концептами», выразимся современно, базовыми представлениями, сформированными через и в самом составе языка, присутствует громадный пласт эмоционально-религиозных, природно-чувственных элементов, которые не поддаются логической апперцепции, но являются неотъемлемой частью всякой частицы (эпистемы), в которой происходит запечатление и объяснение бытия.
Можно сказать, что подчас в развитии русского языка (русского Логоса) на первый план выходит как раз аксиологическая его сторона в ущерб гносеологической, познавательной, и человек движется по жизни ведомый чувством, отвлеченным представлением, религиозной эмоцией, не подвергая их аналитическому рассмотрению или критическому взгляду.
«Полюбить жизнь прежде логики», – сказано героем Достоевского, и это очень точно. Но игнорировать громадный смысл «восточного Логоса» (русского) с точки зрения зрения его тотальности как некоей теории также было бы неверно. Этот Логос содержит в себе не недоверие к человеку и его интеллектуальным возможностям, но ясно и непреложно указывает на его р е а л ь н о е место во всей системе действительности. Русский Логос чувствует опасность торжества и всякого доминирования человеческой индивидуальности (голой логики) над живой жизнью Он чувствует, что такое превалирование отвлеченности над органическими явлениями не может не закончиться катастрофой.
И в самом деле, чем дальше отрывается человек от своих естественных природных корней, чем активнее он заменяет реальный (Божий) мир неживыми предметами, процессами и механизмами, тем дальше он оказывается от реальной связи с жизнью, которая в своем крайнем проявлении (в смерти!) все равно его настигнет и повернет лицом к этой безусловной и органической правде.
Человек современной цивилизации оказался лишен баланса, необходимого равновесия между данными ему удивительными возможностями интеллектуального освоения бытия и ограниченностью эмоционально-чувственного восприятия мира. Сегодняшнее, с бешеной скоростью распространение симулякров разного рода – от игровых до пищевых, воздвигает между жизнью и человеком почти что непреодолимую стену.
И здесь очень тесно соприкасаются такие явления, как человеческий индивидуализм (эгоизм) и способы его мышления о мире. У С. Аверинцева, на которого мы не раз будем ссылаться в этой книге, есть тонкое расуждение о перспективах эгоизма («самости») человека:
– «Еще не все пропало, пока в стене, замкнувшей нашу «самость», есть окно, через которое можно видеть сущее – то, что реально, ибо не подвластно нашему своеволию. Вещи, каковы они суть. Ближний, каков он есть. И во всем, и бесконечно отличный от всего – лик Бога. Его взгляд, проходящий через окно. Чем больше мы ограничили наше себялюбие, тем шире окно. Но вот когда мы впадаем в состояние «прелести», мы закрываем окно – зеркалом. Перед зеркалом наше «я» может принимать позы, самые что ни на есть благочестивые, благообразные и благолепные. Оно может вперяться в гладь зеркала, пока в ней не замаячат фантомы собственного нашего подсознания, миражи нашей внутренней пустыни. Это – самая безнадежная ситуация. Для любого общения, и для общения с Богом как самого глубокого из общений, эгоизм и эгоцентризм равно губительны; а возможно, эгоцентризм даже злокачественнее грубого эгоизма. Эгоизм – явное, очевидное, постыдное торжество самого низменного в человеке; а эгоцентризм, переориентируя на иллюзию весь внутренний состав человека, способен обратить в ложь и возвышенное в нем» [4, 792][4].
Однако такая интерпретация «эгоцентризма» сопрягается у мыслителя с другими аспектами теоретического объяснения искривления человеческой природы, она упирается в принципиальнейшее различение западного и восточного христианства, точнее говоря, в логико-эпистемологическую основу данной оппозиции.
В другой своей работе С. С. Аверинцев замечает, что «после патристической эпохи пути западного и восточного христианства постепенно расходятся.
Формируется дуализм католической и православной культур. Когда мы подходим к этому дуализму, своевременно поставить вопрос: верно ли то, что утверждал Иван Киреевский в прошлом столетии и Алексей Лосев в этом столетии (в ХХ – Е. К.), а именно, что аристотелианским может быть только католицизм, но никак не православие?» [5, 732].
Вот здесь и есть точка преломления между не только западной и восточной ветвями христианства, но и между западной и православной (восточно-русской) культурами: «Там Аквинат (то есть Аристотель – Е. К.) – здесь Достоевский: контраст говорит о многом» [4, 787]. В работе о «Христианском аристотелизме» ученый уточняет это разделение: «В России все было по-другому. История русской культуры сложилась так, что от Крещения Руси до наших дней христианская рецепция Аристотеля даже в византийских масштабах так и не произошла. <….> Человек Запада может никогда не читать Аристотеля; может никогда не слышать этого имени; может считать себя убежденным противником всего, что связано с этим именем. И все же он в некотором смысле является «аристотелианцем», ибо влияние аристотелианской Схоластики за столетия определило слишком многое, вплоть до бессознательно употребляемых лексических оборотов. Поэтому человек современности хорошо сделает, если чаще будет думать об аристотелизме как внутренней форме западной цивилизации. Западному человеку это дает шанс найти равновесие между технико-рационалистическими компонентами своего мира – и другими, теми, например, которые отражены в процитированный выше строке Данте («Любовь, что движет солнце и светила». Пер. М. Лозинского); ведь те и другие восходят к одному и тому же Аристотелю. Русскому это дает шанс, избегая изоляционизма славянофильства, сделать свое отношение к Западу более глубоким» [5, 737–738].
Что же является «внутренней формой» русской цивилизации, что лежит в ее основе? Ведь уже очевидно (автор, будучи покоренным изложенными подходами и осмыслением этого вопроса и С. Аверинцевым, и А. Лосевым, исходит как раз из них), что в своем развитии русская культура не опиралась на логическую схоластику Стагирита и избежала (сознательно-несознательно, другой вопрос), и существенные вопросы веры, церковных догматов, истолкования места и роли человека в мире, осознание явления Бога, опирались в ней не на схоластику, не на логику в ее самом удобоваримом (аристотелианском) смысле.
А на что же она опиралась? Можно сказать, что в этом отношении русская культура была ближе к идеалистическому утопизму Платона, к его «эйдологии», в рамках которой видимое, предметное, понятное вовсе не интерпретируется как верное и истинное. Истина для такой системы мысли находится не в прямой досягаемости первоначальных представлений и пониманий человека. Она всегда «упрятана», завернута в какую-то дополнительную обертку, и до нее необходимо добираться, докапываться. Увиденные тени на стене пещеры (знаменитый пример Платона), воспринятые как безусловная данность, только утверждают нас в обмане и ничего не открывают в смысле и содержании тех настоящих, живых фигур людей, которые находятся за пределами пещеры. Невозможно по тени знания отыскать истину, приблизиться к смыслу.
Русская культура в большинстве своих безусловных познавательных (эпистемологически) отношений к действительности упорно отказывалась рассматривать первоначальную рецепцию и реакцию как истину в последней инстанции. Тем более, что в ней, этой культуре, сохранилось инстинктивное ощущение, что главное – просто не открывается, что без индивидуального чувства не будет полной и истина.
В самой логической размытости (sic!) данного определения отражается и известная размытость тех духовных усилий, которые полагает необходимым предпринять субъект этой культуры. Для него правда тех или иных явлений, вещей и всего земного, может обнаружиться на любом участке мыслительного пространства. Она вовсе не привязана к каким-то конкретным координатам. В определенном отношении – это бессистемное мышление, но максимально свободное, ищущее нужные для себя опоры в любом удобном для него месте.
Для русской культуры на месте логики вначале замаячила, проявилась в явлениях учения исихазма расширенная эмоция, чувственно-любовное отношение к жизни, всему Божественному миру, потом впоследствии она была заменена тем внутренним убеждением, что вера и любовь цементируют процессы познания человеком окружающей действительности лучше всяких иных способов. При этом, конечно, надо было отказаться от некоторых привилегий именно что земной жизни, какая познается прежде всего и в основном через логические процедуры западного способа мышления.
В завершение данного раздела главы приведем определение Логоса, как оно дано С. С. Аверинцевым. И дано оно уже с определившимся отношением к его, Логоса, рецепции восточнославянской (русской) культурой. По С. С. Аверинцеву – «Логос – это… «одновременно «слово» (или «предложение», «высказывание», «речь») и «смысл» (или «понятие», «суждение», «основание»); при этом «слово» берется не в чувственно-звуковом, а исключительно в смысловом плане, но и «смысл» понимается как нечто явленное, оформленное и постольку «словесное». <…> Логос – это сразу и объективно данное содержание, в котором ум должен «отдавать отчет», и сама эта «отчитывающаяся» деятельность ума, и, наконец, сквозная смысловая упорядоченность бытия и сознания; (курсив наш – Е. К.) эта протипоположность всему безотчетному и бессловесному, безответному и безответственному, бессмысленному и бесформенному в мире и человеке» [4, 277].
Обращает на себя внимание вот эта принципиально выделенная ученым приставка без и бес в последнем предложении. Отсутствие Логоса как кода культуры фиксируется в явной недостаточности и неполноте осознаваемой действительности, а также самого человека, поэтому рефрен б е з… Без слова, без смысла, без ответа, без формы, без отчета, без ответственности пребывание человека в мире становится обременительным как для индивида, так и для самого бытия.
Русский Логос сосредоточен именно что на всяческом отторжении и аннигиляции этого бези на утверждении смысла целостного человека в его предстоянии перед миром и Богом во всей широте интеллектуальной и эмоциональной ответственности.
Любопытно посмотреть на объяснение этого понятия через «эйдологию» Платона у А. Ф. Лосева, тем более, что мы в ряде других мест данной книги будем нащупывать и уточнять взаимосвязь русской и древнегреческой культур в онтологическом смысле. А. Ф. Лосев пишет:
– «Термин logos является носителем нескольких десятков значений в греческом языке вообще и, в частности, у Платона. Самое главное – это то, что в этом термине отождествляется все мыслительное и все словесное, так что «логос» в этом смысле означает и «понятие», и «суждение», и «умозаключение», и «доказательство», и «науку» с бесчисленными промежуточными значениями, а с другой стороны, и «слово», «речь», «язык», «словесное построение» и вообще все, относящееся к словесной области. На европейской почве это является единственным и замечательным отождествлением мышления и языка, так как всякий другой европейский язык для той или другой сферы имеет свои специальные обозначения. Ясно, что и для учения о красоте и искусстве такое отождествление мышления и слова должно иметь громадное значение» [7, 532–533].
Мы выше уже говорили о своеобразной русской «эйдологии», которая замешана на особом соединении слова и реальности, определенного звукового комплекса и действительности, мышления и речи. В этом также проявляется связь с древнегреческой эстетикой и тем, чистым способом мышления. В другом месте в развитие этого тезиса у А. Ф. Лосева обнаруживается другое, близкое русскому уму замечание: «Платон погружает свои идеи в недра живого телесного космического бытия» [7, 150].
В любом случае в этих высказываниях перед нами представлена логико-онтологическая фиксация того без-условного априорного фундамента для всех наших дальнейших построений применительно к Пушкину, так как мы исходим из позитивного утверждения в русской эпистемологической системе (проявленной и реализованной через все богатство русского языка именно главным национальным гением), из понимания ее (его, Пушкина) влияния на словесную эстетику национальной культуры, на образ мысли, на ментальность и стереотипы поведения, на исторические представления людей, числящих себя по разряду русской культуры.
* * *
Пушкин выпрыгнул на новый уровень русской словесности в ее эстетическом качестве. Русская литература после него стала духовной деятельностью, отражающей существо, смысл и перспективы развития целого народа. Вопрос даже не в том, чтобы этому феномену Пушкина еще раз удивиться, а в том, как нам все это освоить, понять и тем самым приподняться над уровнем той фрагментарной обыденности, которую именуют современной культурой (в ее постмодернистском разливе) и которую невозможно транслировать национальному сознанию как нечто духовно важное, имеющее отношение к самим основам существования всех людей данной ментальности без исключения.
Такое универсальное воздействие с л о в а на способы и формы мышления человека, на его психологию, отношение к ключевым категориям веры, «скрытого» патриотизма, любви к родной природе началось именно с Пушкина. В рамках такого рода национально-культурной парадигмы продолжали творить Толстой и Достоевский; на рубеже XIX и XX веков эта сила взаимодействия между словом, высказанном в литературе, и сознанием людей ослабевает, становится второстепенной и на первый план выходит реальная жизнедеятельность человека, регулируемая уже во многом другими принципами.
Но тем не менее, путь, определенный Пушкиным, не «затоптан» и до сих пор. Угаданные им основные аспекты отношения русского человека к реальности, данной им практически по всех ее проявлении – от любовной страсти до чувства истории, живы и сейчас. И не могут быть не живы, так как они отражают фундаментальные особенности русского сознания, русского ума и русского отношения к жизни.
Понять Пушкина, как мы писали выше – это возможность понять Россию, причем не только в том историческом (сложившемся) разрезе, который очевиден и который все же может быть подвергнут тому или иному анализу и рассмотрению, но в будущем развороте русской жизни.
Если исходить из концепции Бахтина о Достоевском и приложить ее (в качестве мысленного эксперимента) к Пушкину, то открываются чрезвычайно интересные моменты. Окажется что они, эти художники, друг другу диаметрально противоположны. Если у Достоеского (по Бахтину) торжествует диалогический тип мышления, и именно через диалог сознаний героев, героя и автора происходит реализация основных идей автора «Преступления и наказания», то у Пушкина представлена монологическая форма высказывания. Если у Достоевского мы обнаруживаем признаки жанрового смешения в духе выделенной Бахтиным мениппеи, то у Пушкина наличествует четкое отграничение одних жанров от других. Если у Достоевского высказывается «последнее», завершающее слово о мире (как тенденция), то у Пушкина – выговорено п е р в о е слово для всей русской литературы. Он – первоначален. Если у Достоевского – в с е в действительности незавершено и не может быть завершено, так как «последнее» слово о бытии еще не сказано, то у Пушкина мы обнаруживаем античную завершенность и высказывания (смысла) и его формы.
Широко известны слова Достоевского о том, что «все мы вышли из рукава шинели Гоголя», и мы вправе задаться вопросом: из чьего рукава «выпорхнул» Пушкин? И здесь нет определенного ответа на этот вопрос: Пушкин появился не мотивированный никаким конкретным предшествующим типом дискурса, литературным направлением и т. п. Он наследует всей русской культуре по реестру основных смыслов этой культуры, а его гениальность в области художественной формы не имеет ни предшественников, ни последователей в прямом смысле этих выражений.
Был бы жив Пушкин и далее 1837 года, то вполне вероятно, что развитие русской литературы и, соответственно, русской жизни пошло бы другим образом (об этом восклицал Достоевский в своей пушкинской речи). Да и Достоевский не был бы тем Достоевским, какого мы знаем сейчас.
Но случилось так, как случилось, и Пушкин завершает собой одну эпоху и открывает другую. Та эпоха, которая закончилась с ним – это эпоха, совместившая русскую античность и одновременно русский же Ренессанс, представленный им самим в единственном числе. Ведь если бы не было бы проявлений античности у Пушкина как факта культурного и эстетического самосознания, то не было бы материала того, что необходимо возрождать на новом этапе своего развития.
Внешне эпоха Пушкина кратка до обидного, но с точки зрения движения тектонических пластов устанавливавшейся и формирующейся русской культуры Нового времени – она равна нескольким столетиям, пройденными в западной традиции.
Феноменальность этого явления не может не восторгать нас, русских людей: пройти через целые культурные эпохи за столь короткий временной отрезок стало со времени Пушкина национальной чертой. Всегда Россия шла именно по этому пути, сокращая за счет своих гениев или сверхусилий всего народа расстояние от своих более развитых и ускорившихся соседей и соперников.
А. В. Михайлов писал о творчестве Пушкина как о высшей, «центральной, фокусной» точке европейского литературного развития [8, 359]. Рядом с ним он ставил одного лишь Гете. Также вполне справедливо им ставился вопрос об «объемности пушкинского слова», которое «сродни античной телесной скульптурности» [8, 360], что подверждается классическими пушкинскими стихами в «подражание» древнегреческим образцам. Это совершенно справедливо, и наши наблюдения это только подтверждают.
С Пушкиным русский язык приобрел, набрал особую силу сверхчувственного ощущения некой правды, кроющейся в слове. У древнерусского человека было понимание, что бывают языки православные, то есть истинные в самом безыскусном смысле, а есть – по сути все другие языки – не православные. Говоря по-иному, представление о том, что существует язык, на котором можно выразить всю правду жизни, всегда существовало в сознании русской культуры и русского человека. И таким они считали русский язык. Даже в период своего первоначального развития этот язык сохранял свою безусловную сакральность для большинства людей, на этом языке говоривших.
Пушкин подхватил это понимание энергии и правды влияния с л о в а, существовавшее в национальном сознании, на ментальную сторону жизни человека, на его «чувство-мысли», и определил намного вперед основные пути развития не только русской литературы, но самой русской действительности.
Литература и комментарии
1. В примечаниях к строфе XXVI «Евгения Онегина» первого издания Пушкиным было сделано следующее замечание именно что со ссылкой на Карамзина:
«Нельзя не пожалеть, что наши писатели слишком редко справляются со словарем Российской Академии. Он останется вечным памятником попечительной воли Екатерины и просвещенного труда наследников Ломоносова, строгих и верных опекунов языка отечественного. Вот что говорил Карамзин в своей речи: «Академия Российская ознаменовала самое начало бытия своего творением, важнейшим для языка, необходимым для авторов, необходимым для всякого, кто желает предлагать мысли с ясностью, кто желает понимать себя и других. Полный словарь, изданный Академиею, принадлежит к числу тех феноменов, коими Россия удивляет внимательных иноземцев: наша, без сомнения, счастливая судьба, во всех отношениях, есть какая-то необыкновенная скорость: мы зреем не веками, а десятилетиями (курсив наш – Е. К.). Италия, Франция, Англия, Германия славились уже многими великими писателями, еще не имея словаря: мы имели церковные, духовные книги; имели стихотворцев, писателей, но только одного истинно классического (Ломоносова), и представили систему языка, которая может равняться с знаменитыми творениями Академий Флорентинской и Парижской. Екатерина Великая… кто из нас и в самый цветущий век Александра I может произносить имя ее без глубокого чувства любви и благодарности?.. Екатерина, любя славу России, как собственную, и славу побед, и мирную славу разума, приняла сей счастливый плод трудов Академии с тем лестным благоволением, коим она умела награждать все достохвальное и которое осталось… незабвенным, драгоценнейшим воспоминанием».
Исключенные из окончательной редакции строфы «Дневника Онегина» также содержат на этот счет существенные для отношения Пушкина к русскому языку суждения:
«Сокровища родного слова,
Заметят важные умы,
Для лепетания чужого
Безумно пренебрегли мы.
Мы любим муз чужих игрушки,
Чужих наречий погремушки,
А не читаем книг своих.
Да где ж они? – давайте их.
А где мы первые познанья
И мысли первые нашли,
Где поверяем испытанья,
Где узнаем судьбу земли?
Не в переводах одичалых,
Не в сочиненьях запоздалых,
Где русский ум и русский дух
Зады твердит и лжет за двух»
2. Вежбицкая А. Семантические универсалии и базисные концепты. М., 2011.
3. Зализняк Анна А., Левонтина И. Б. Отражение «национального характера» в лексике русского языка //Анна А. Зализняк, И. Б. Левонтина, А. Д. Шмелев. Константы и переменные русской языковой картины мира. М., 2012.
4. Аверинцев С. С. Слово Божие и слово человеческое // С. Аверинцев. Собр. соч. Том София – Логос. Словарь. Киев, 2006.
5. Аверинцев С. С. Мы призваны в общение // С. Аверинцев. Собр. соч. Том София – Логос. Словарь. Киев, 2006.
6. Аверинцев С. С. Христианский аристотелизм как внутренняя форма западной традиции и проблемы современной России // С. Аверинцев. Собр. соч. Том София – Логос. Словарь. Киев, 2006
7. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. М., 1969.
8. Михайлов А. В. Проблема стиля и этапы развития литературы нового времени // Теория литературных стилей. Современные аспекты изучения. М., 1979.
9. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. Перевод с франц. М., 1977.