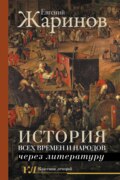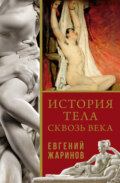Евгений Жаринов
Безумные русские ученые. Беспощадная наука со смыслом
Молодому и энергичному хирургу, приехавшему только что из Дерпта, предстояло превратить авгиевы конюшни Второго военно-сухопутного госпиталя в нечто похожее на клинику. Административное «военно-учебное болото», в которое попал Пирогов, заволновалось. Населявшие его гады всполошились и соединенными усилиями набросились на нарушителя их мирной воровской идиллии. Но они не знали, что перед ними инициатор знаменитых «Чингисхановских нашествий» по балтийским землям Империи. Пирогов тут же приспособил одну из госпитальных бань под мертвецкую и принялся резать трупы по двадцати штук в день.
От некого доктора Лоссиевского ассистенту Пирогова сразу же последовало весьма красноречивое предписание: «Заметив в поведении г-на Пирогова некоторые действия, свидетельствующие об его умопомешательстве, предписываю Вам следить за его действиями и доносить об оных мне. Гл. д-р. Лоссиевский».
Ассистент, некий Неммерт, показал бумагу Пирогову. Последний приказал отправить ее по начальству. Разразился скандал, в результате которого Лоссиевский и компания присмирели, и Пирогов вновь принялся безудержно резать и сумел в короткий срок поставить хирургическую кафедру академии на такую высоту, до которой она не поднималась ни до, ни после него.
Затем Николая Ивановича назначают директором инструментального завода, и он соглашается. Теперь хирург сам придумывает инструменты, которыми любой специалист сможет сделать операцию хорошо и быстро. Его просят принять должность консультанта в одной больнице, в другой, в третьей, и он опять соглашается.
Чтобы студенты имели возможность постоянно упражняться в производстве операций и вести экспериментальные наблюдения, в 1846 году по проекту Пирогова при Медико-хирургической академии был создан первый в Европе анатомический институт.
В 1846 году он опубликовал «Анатомические изображения человеческого тела, назначенные преимущественно для судебных врачей», а в 1850-м – «Анатомические изображения наружного вида и положения органов, заключающихся в трех главных полостях человеческого тела».
Поставив перед собой задачу – выяснить формы различных органов, их взаиморасположение, а также их смещение и деформацию под влиянием физиологических и патологических процессов, Пирогов разработал свой метод, названный им методом «ледяной скульптуры». Ученый хотел, чтобы для хирурга человеческое тело стало прозрачным. В результате чего он должен был мысленно представить себе положение всех частей в разрезе, проведенном в любом направлении через любую точку тела.
Чтобы узнать, как расположены различные части тела, анатомы вскрывали полости, разрушая соединительные ткани. Воздух, врываясь внутрь, искажал положение органов, их форму. Искаженные уже при вскрытии, органы окончательно изменялись под ножом анатома. Сам эксперимент мешал получить точные результаты, ради которых он проводился. Нужно было искать новый путь.
Существует легенда, в соответствии с которой Николай Иванович, проезжая по Сенной площади, где зимой обыкновенно были расставлены рассеченные поперек замороженные свиные туши, обратил на них особое внимание и применил в новом подходе к анатомии.
Сам Пирогов описал этот новый подход следующим образом: надо «изучить на замороженных трупах положения, форму и связь органов, не распиливая их в различных направлениях, а обнажая их на замороженном трупе, подобно тому, как это делается обыкновенным способом. Для этой цели труп замораживали до плотности камня и затем при помощи долота, молотка, пилы и горячей воды обнажались и вылущивались органы, скрытые в оледенелых слоях. С помощью этих приемов и получено изображение нормального положения сердца и органов брюшной полости».
Впрочем, идея использования холода в анатомических исследованиях появилась задолго до знаменитого случая на Сенной. Еще в Париже Пирогов делился с хирургом Амюсса тем, как он исследовал направление мочевых каналов на замороженных мертвецах.
Примерно в те же годы Буяльский сделал интересный опыт: на замороженном трупе, которому придали очень выразительную позу, обнажили мышцы. Скульпторы по этому образцу изготовили форму и отлили бронзовую фигуру. Про невинные платки и нитки эпохи студенчества Пирогова уже давно забыли. Его величество Эксперимент шел по патриархальной России семимильными шагами. Оставалось не так уж много времени, чтобы Ему перейти из области чистой науки в науку об обществе и оправдать любой революционный террор. На опыте нашей недавней истории мы знаем, что наши социальные экспериментаторы отличались еще большей страстностью, чем наши естествоиспытатели, и счет жертвам шел уже не на тысячи, а на миллионы.
Но вернемся к изысканиям Пирогова. Доведя замороженный труп до плотности твердого тела, ученый обходился с ним точно так же, как с деревом. Не опасаясь уже ни вхождения воздуха, ни сжатия частей, ни распадения их, Пирогов распиливал эти трупы на тонкие параллельные пластинки. Получалась целая серия пластинок-дисков. Сочетая их, сопоставляя друг с другом, можно было составить полное представление о расположении различных частей и органов. Человеческое тело действительно становилось прозрачным.
Простая ручная пила для такой тонкой работы не подходила. Пришлось приспособить пилу, взятую со столярного завода, которой разделывали красное, ореховое и палисандровое деревья. В анатомическом театре это сооружение занимало целую комнату. В месте, где производились эти работы, все время сохранялась минусовая температура. Трупы должны были храниться как в морозильнике. Пирогов замерзал. На каждый распил уходило несколько часов. Сейчас бы действия великого хирурга подпадали бы под статью уголовного кодекса: издевательство над трупом. Однако в Российской империи такое занятие было вполне легальным. Чьи это были трупы? Скорее всего, бесхозные трупы мужиков, какими-то судьбами попавших в столицу и здесь отдавших Богу душу. Но кто-то уже собирал в русской литературе «мертвые души».
Г. Флобер в своем «Лексиконе прописных истин» пишет: «Вскрытие – Оскорбляет величие смерти». Пирогов сознательно оскорблял величие Смерти. Но оскорбляя Смерть, он оскорблял и Жизнь, ведь эти понятия неразрывно связаны между собой. Бесспорно, у великого хирурга есть оправдание: все это делалось ради спасения живых. Жизнь – вот абсолютная ценность человека Нового времени. Смерти боятся, поскольку она мешает наслаждаться радостями бытия. Но кто сказал, что гедонизм – это высочайшая духовная ценность? Гедонизм, например, античной эпохи привел людей к скотскому состоянию последних лет Римской империи, когда кровавые зрелища, разворачивавшиеся в знаменитом Колизее, посещали даже беременные женщины. И кто сказал, что к истине можно идти любыми путями? Не страдает ли от этого сама истина? Известно, что медики Третьего рейха также сделали немало открытий в области медицины, проводя опыты на живых людях, также замораживая, правда, в отличие от Пирогова, не дожидаясь, пока умрут страдальцы.
И вновь вернемся к мертвому телу, столь излюбленному предмету научных изысканий великого русского хирурга. Мишель Фуко в своей знаменитой работе «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы» пишет: «В любом обществе тело зажато в тисках власти, налагающей на него принуждение, запреты или обязательства… Человеческое тело вступает в механизмы власти, которые тщательно обрабатывают его, разрушают его порядок и собирают заново. Рождается «политическая анатомия», являющаяся одновременно «механикой власти». Она определяет, как можно подчинить себе тела других, с тем чтобы заставить их не только делать что-то определенное, но действовать определенным образом, с применением определенных техник, с необходимой быстротой и эффективностью».
Хотел того Пирогов или нет, но он словно выполнял определенный социальный заказ, он усиленно работал в области абсолютного подчинения тела государственному здравоохранению как одному из важных институтов власти. Не случайно, что в период сталинской диктатуры именно этот ученый будет поднят на пьедестал почета и окружен ореолом величия. Отец народов прекрасно уловит скрытый смысл и значение многочисленных экспериментов с трупами. Любому диктатору, любому аппарату подавления нужны человеческие тела, чтобы манипулировать ими, а для этого необходимо хорошо исследовать сам материал со всеми его скрытыми и явными возможностями.
И здесь вновь следует говорить об эстетической ответственности науки перед человечеством. Все ли средства хороши для достижения целей и все ли истины надо обязательно познать? Не прав ли старик Флобер, сказав, что «вскрытие оскорбляет величие смерти»?
Однако вновь вернемся к научным поискам Пирогова. Если каждый анатомический атлас ученого был ступенью в познании человеческого тела, то «Ледяная анатомия» стала вершиной. Она составляет тысячи рисунков! 12 тысяч трупов вскрыл профессор за время своей работы над этим атласом. Результат поистине титанического труда хирург опубликовал в четырех томах, которые выходили с 1851 по 1854 годы. Знаменитый атлас получил название «Топографическая анатомия, иллюстрированная разрезами, проведенными через замороженное тело человека в трех направлениях».
Во время своей безудержной петербургской жизни Пирогов тяжело заболел, отравленный госпитальными миазмами и дурным воздухом мертвецкой. Полтора месяца он не мог подняться с больничной койки. Однако смог все-таки найти в себе силы и еще больной вновь принялся за разрезание замороженных трупов. В это же время у Пирогова умирает жена. Она умирает при родах второго сына. Но горе, собственная болезнь и два маленьких ребенка не могли оторвать Пирогова от морозильника, где его ждала огромная пила и очередное замороженное человеческое тело. Вот оно подлинное проявление «воли к истине»! Есть в этом бесспорном научном подвиге русского ученого какой-то оттенок фаустианства.
В новооткрытом анатомическом институте Пирогов в это же время занялся экспериментальными исследованиями анестезии. Накануне введения в хирургию эфира как анестезирующего средства знаменитый французский хирург Вельпо сказал, что это пустая мечта, за которой не следует гоняться. «Устранение боли при операциях, – говорил он, – химера, о которой непозволительно даже думать. Режущий инструмент и боль при операциях – два понятия, не отделимые друг от друга в уме больного».
Это говорилось в 1839 году. Скорее всего, мы сталкиваемся здесь с некой концепцией неизбежности страдания как функции очищения больного перед возможной смертью под ножом хирурга. Не будем забывать, что до открытия антисептической хирургии оставалось более двадцати лет, и больные умирали в огромном количестве не из-за ошибок хирурга, а в результате неправильного ухода за ними в послеоперационный период.
Но не затем резал трупы Пирогов, чтобы оставить в медицине хоть какие-то остатки христианского представления о страданиях как естественной расплаты за греховные привязанности нашего бренного тела. Приход Пирогова к анестезии – это проявление подсознательного стремления к комфорту или к обретению психологического убежища перед затаенным страхом, порожденным всесильной Болью и Смертью.
История открытия наркоза начинается уже с 1800 года, когда английский ученый Хэмфри Дэви, производя опыты на кошке, а потом и на самом себе, сообщил, вдыхание закиси азота вызывает эйфорию, опьянение и невосприимчивость к боли.
«Веселящий газ» (так называл Дэви закись азота) не обрел пристанища в операционной, зато был взят «на вооружение» бродячими артистами и фокусниками. Он стал частым гостем на ярморочных балаганах.
Изобретение эфирного наркоза принадлежит доктору медицины и профессору химии Ч. Джексону и зубному технику У. Мортону. 16 октября 1846 года произошло событие, означавшее революцию в хирургии. В этот день была сделана первая операция под наркозом. Хирург из Бостона Уоррен с помощью Мортена безболезненно удалил опухоль на шее пациента. Сами же изобретатели наркоза, Джексон и Мортон, ничего не получили от своего открытия. Проведя двадцать лет в тяжбах за пальму первенства, один из них, Джексон, умер в сумасшедшем доме, а другой, Мортон, – нищим на нью-йоркской улице.
Тем временем эфирный наркоз начал свое победное шествие, выгоняя нестерпимую боль из операционных. Первую в России операцию под эфирным наркозом сделал Федор Иванович Иноземцев. Это был извечный конкурент Пирогова, занявший когда-то обещанную тогда еще молодому хирургу кафедру Московского университета. 7 февраля 1847 года Иноземцев вырезал у мещанки Елизаветы Митрофановой пораженную раком грудную железу. Не прошло и недели, и Пирогов произвел свои собственные операции с применением эфира.
Разумеется, неутомимый анатом также заинтересовался этеризацией и, изучая действие эфира на животный организм, произвел ряд весьма тщательных опытов над животными, главным образом над собаками. Кроме того, он испытал действие эфира на здоровых людях и произвел вслед за своим оппонентом Иноземцевым 50 операций с использованием эфирного наркоза. Работая с эфиром, Пирогов кроме обыкновенного способа этеризации при помощи вдыхания, применял и другой, принадлежащий ему, способ введения паров эфира в кишечный канал через прямую кишку. Он придумал также два прибора как для наркоза по своему способу, так и для вдыхания.
В дальнейшем Пирогов решил применить наркоз в военно-полевой хирургии. С этой целью 8 июля 1847 года профессор выехал на Кавказ в действующую армию. По пути, уже в Москве, он произвел несколько операций под эфирным наркозом. Прибыл на Кавказ, Пирогов остановился в Пятигорске и продолжил свои операции. В Термихан-Шуре история повторилась.
В Оглах, где раненые были размещены в лагерных палатках и не было отдельного помещения для проведения операций, Пирогов стал нарочно оперировать в присутствии других больных. Затем зрители с охотой подвергали себя наркозу сами. Ввиду такого эффекта Пирогов допустил и здоровых солдат присутствовать на операции.
Наконец он прибыл в Самурский отряд, который расположился у укрепленного аула Салты. Осада продолжалась около двух месяцев. Здесь-то Пирогов и проявил себя впервые как военно-полевой хирург. Под Салтами он имел случай провести 100 операций с эфирным наркозом. Война предоставила редкий случай для практики. Государство любезно отдавало Пирогову тела своих солдат в полное его распоряжение. Здесь их устремления абсолютно совпали.
Как военно-полевой хирург Пирогов оказался необычайно активным. В этот дебют свой на поприще военно-полевой хирургии он был ярым сторонником ампутаций, и немало солдат пострадало от его бешеной активности. Но, как известно, «опыт – сын ошибок трудных». Лишь в следующей войне, Крымской, Пирогов перестанет безоговорочно лишать солдат конечностей и придумает гипсовую повязку, а также уникальную операцию, которая позволит оставлять солдату так называемую «культю». А пока немало рук и ног было отрезано понапрасну, так как интересы Пирогова в ограниченном военном конфликте, где солдат особенно не считали из-за явного численного преимущества над врагом, были сосредоточены в основном на испытании эфира.
Благодаря Кавказской войне амбициозному хирургу удалось оставить далеко позади своего извечного соперника Иноземцева. Он смог провести под наркозом 700 операций.
Это был безусловный рекорд. Война давала необычайный материал и почти безгранично расширяла экспериментальные возможности. Поэтому, когда всего через несколько лет на юге России разыгралась «вторая Илиада» и началась знаменитая оборона Севастополя, Пирогов тут же начал проситься на фронт. Эта война и стала переломным этапом в жизни великого ученого. Она заставила его пересмотреть многие жизненные позиции и кое в чем усомниться. В облике войны, которую по праву можно считать одним из прологов будущей мировой бойни (в конфликте участвовало четыре мировых державы), Пирогов столкнулся с самой настоящей эпидемией Смерти. В какой-то момент он дрогнул и понял, что с явно неравным соперником ему пришлось вступить в схватку.
«Я никогда не забуду, – писал впоследствии Пирогов, – моего первого въезда в Севастополь. Это было в позднюю осень в ноябре 1854 года. Вся дорога от Бахчисарая на протяжении 30 верст была загромождена транспортами и ранеными, орудиями и фуражом. Дождь лил как из ведра, больные и между ними ампутированные лежали по двое и по трое на подводе, стонали и дрожали от сырости; и люди, и животные едва двигались в грязи по колено; падаль валялась на каждом шагу, из глубоких луж торчали раздувшиеся животы павших волов и лопались с треском; слышались в то же время и вопли раненых, и карканье хищных птиц, целыми стаями слетавшихся на добычу, и крики измученных погонщиков, и отдаленный гул севастопольских пушек. Поневоле приходилось задуматься о судьбе наших больных; предчувствие было неутешительно. Оно и сбылось».
Пирогов окунулся в самый настоящий ад. Помимо страданий, боли и смертей, самое бесстыдное воровство процветали на этой почве, обильно смоченной человеческой кровью.
«Для всех очевидцев памятно будет время, проведенное с 28 мая по июнь месяц в Дворянском собрании, где размещался госпиталь, – вспоминал Пирогов, – во все это время около входа в Собрание, на улице, там, где нередко лопались бомбы, стояла всегда транспортная рота солдат; койки и окровавленные носилки были в готовности всегда принять раненых, кровавый след указывал дорогу к парадному входу Собрания… приносимые раненые складывались вместе с носилками целыми рядами на паркетном полу, пропитанном на целые полвершка запекшейся кровью, стоны и крики страдальцев, последние вздохи умирающих, приказания распоряжающихся – громко раздавались в зале… В боковой, довольно обширной комнате (операционной) на трех столах кровь лилась при производстве операций; отнятые члены лежали грудами, сваленные в ушатах; матрос Пашкевич, отличившийся искусством прижимать артерии при ампутациях, за что получил прозвание живого «турникета», то есть того хирургического аппарата, который употребляется для этой цели, едва успевал следовать призыву врачей, переходя от одного стола к другому с недвижным лицом, молча, он исполнял в точности данное ему приказание, зная, что неутомимой руке его поручалась жизнь собратов… Воздух в комнате, несмотря на беспрестанное проветривание, был наполнен испарениями крови, хлороформа; часто примешивался и запах серы: это значило, что есть раненые, которым врачи присудили сохранить поврежденные члены, и фельдшер Никитин накладывал им гипсовые повязки…»
Лев Толстой в своей знаменитой статье «Как умирают русские солдаты», написанной по горячим следам обороны Севастополя, видя страдания простых людей, впервые почувствовал некое особенное отношение мужиков к своему последнему часу. У них было совершенно иное отношение к Смерти. Они ее просто не боялись, а «ничем не может владеть человек, пока он боится смерти». И граф Толстой, воевавший в это время на самом опасном бастионе, и хирург Пирогов совершили для себя самое настоящее нравственное открытие. Они, люди европейски образованные и, следовательно, панически боящиеся смерти (результат влияния философии Просвещения), вдруг столкнулись с каким-то почти средневековым фатальным и спокойным примирением.
Известно, что великий писатель был постоянно поглощен темой смерти и мифом о народе. Перед самой кончиной, на маленькой станции, он со стоном повторял: «А мужики? Как же мужики умирают?»
А мужики умирали спокойно. Они не оттягивали расчет, а отходили облегченно, будто «просто перебирались в другую избу». Мужики и солдаты Севастополя умирали, по мнению Ф. Арьесу, так, как умирал бы рыцарь Роланд, как умирал бы монах из Нарбона в далекую эпоху средневековья: эти люди знали некую тайну и не собирались ни с кем делиться своим сокровенным знанием. Это знание было вне границ научных представлений о жизненных функциях человеческого организма. Получалось так, что простой русский крестьянин, современник Пирогова, который безропотно отдавал ему свое тело под нож, чьи бесчисленные трупы он использовал ради своих научных изысканий, знал о Смерти гораздо больше, чем великий ученый, потому что совершенно не боялся ее, потому что инстинктивно понимал, что Смерть несет в себе нечто большее, чем простое уничтожение бренного тела по законам всесильной Природы. Здесь столкнулись два мифа: миф патриархальный, крестьянский, и миф научный, просветительский. Миф патриархальный давал успокоение и убежище в самой Смерти, миф же просветительский, научный, такого убежища не давал: страх перед небытием в Пирогове так и остался на всю жизнь, и даже перед самой кончиной великий хирург будет по-прежнему бояться могилы и гниения. Именно под влиянием этого панического страха, зная о своей скорой кончине, он спешно изобретет новый способ бальзамирования. Это будет последний и отчаянный выпад великого хирурга против всесильного Врага, с которым он боролся всю свою сознательную жизнь.
Даже в том, как Пирогов сортирует раненых, чувствуется, что Смерть занимает в этой системе главенствующее место. Первую группу составили безнадежные. Они поручались священнику и сестрам милосердия. Этим страдальцам женщины облегчали последние минуты жизни. Медсестры лишь утешали умирающих и, по мнению Пирогова, в это время это была помощь и помощь очень важная. Его скальпель, его умение доктора отступали. Во вторую категорию входили раненые, требовавшие безотлагательной помощи тут же на перевязочном пункте.
Третья категория включала всех, кто подлежал операции на следующий день или позднее, а пока могли быть отправлены в госпиталь.
Наконец, четвертая категория состояла из легкораненых, которых перевязывали и отправляли обратно в бой.
За оборону Севастополя Пирогов лично осуществил 5 000 ампутаций. А в его записках на тему войны появляются библейские интонации. Он пишет: «Над этим лагерем мучеников вдруг разразился ливень и промочил насквозь не только людей, но даже и все матрацы под ними. Несчастные так и валялись в грязных лужах. Можно себе представить, каково было с отрезанными ногами лежать на земле по три и по четыре вместе; матрацы почти плавали в грязи… По двадцати и более ампутированных умирало каждый день, а их было до 500. От 20 мертвых тел можно было находить меж ними каждый день…»
1 июня 1855 года больной, измученный физически и нравственно, Пирогов уезжает из Севастополя в Петербург и уходит из Медико-хирургической академии.
С этого момента он целиком посвящает себя проблемам воспитания. Великий хирург задумывается о смысле жизни под стать героям Л. Толстого. Войну, с которой он по-настоящему столкнулся лишь во время обороны Севастополя, он называет «травматической эпидемией». «Сама же причина войн – пишет хирург – по-видимому зависящая от воли и произвола правительств, кроется гораздо глубже. Разные миссии наций, стремление их на восток или на запад, переселения народов, соединенные с войнами, по временам появляющиеся завоеватели – что это все такое, как не нечто неправильное, глубоко затаенное в самой природе человеческих обществ! И войны, и каждая война имеют так же, как и эпидемии, свои фазы и свои периоды». Рассуждая о фазах и периодах войн, Пирогов славно предугадывает теорию этногенеза Л. Гумилева.
И в то же время, как близки мысли знаменитого хирурга о войне и великого русского писателя. Л. Толстой в «Севастопольских рассказах» пишет»: «Одно из двух: или война есть сумасшествие, или ежели люди делают это сумасшествие, то они совсем не разумные создания, как у нас почему-то принято думать».
По меткому выражению Стоютина, Пирогов стал после Крымской войны «общественным хирургом». В журнале «Морской сборник» он пишет свою знаменитую статью «Вопросы жизни», в которой говорит о необходимости нравственного воспитания, причем это воспитание хирург ставит выше любой профессиональной подготовки. Неожиданно сугубый профессионал-материалист начинает говорить о душе и о нравственных принципах.
С этого момента Пирогов почти полностью отходит от врачебной деятельности. На франко-прусскую войну, а затем на русско-турецкую он поедет исключительно как представитель Российского Красного Креста. Известно, что Пирогов еще за год до подписания знаменитой Женевской конвенции предлагал сделать медицину во время войны нейтральной. Отныне главной сферой деятельности ученого станет образование и воспитание. Пирогова назначают попечителем сначала Одесского, а затем и Киевского учебных округов. «Общественный хирург» внес заметное оживление в деятельность школ того времени: он всячески помогал развитию сети воскресных школ, активно выступал против ограничения прав на образование по сословным и национальным признакам, говорил о реформировании обучения. В то же время не все педагогические воззрения Пирогова оказались прогрессивными. Например, он выступал за физические наказания учащихся розгами. Вопрос о непокорном теле, над которым надо установить абсолютный контроль, по всей видимости, так и остался неразрешенным для ученого. Топографическая анатомия сменилась, по меткому выражению М. Фуко, анатомией «государственной».
В 1861 году под давлением генерал-губернатора юго-западного края И.И. Васильчикова Пирогов был вынужден оставить место попечителя. Он возвращается в свое имение под Винницей (село Вишня) и выезжает оттуда лишь по специальным приглашениям Российского и Международного Красного Креста. Известно, что Пирогов лечил даже самого Гарибальди, получившего тяжелое ранение в ногу, но это все было уже лишено прежней одержимости. Вопросы о душе встали, судя по всему, на первое место. Пирогов не считал себя религиозным человеком. Пожалуй, подобно Л. Толстому, он искал какое-то свое пантеистическое или даже деистическое оправдание духовности.
В начале 1881 года у Пирогова на слизистой оболочке твердого неба появились язвочки. В день празднования 50-летнего юбилея научной деятельности в Москве Пирогова осмотрел Склифосовский и высказался за их злокачественность. Он нашел необходимым немедленную операцию. Собрался консилиум, который пришел к тому же решению. Пирогов упал духом. Решено было немедленно ехать в Вену к Теодору Бильроту. Пирогов ехал совершенно убитый. В Киеве на станции ученого осмотрел в вагоне его ученик и всячески старался успокоить своего кумира. Бильрот после тщательного исследования признал язвы доброкачественными, и Пирогов ожил. Однако спокойствие длилось недолго. Уже по возвращении домой хирург заметил, что язвочки не затягиваются.
Лето Пирогов провел в Одессе на лимане. Чувствовал он себя плохо. За 26 дней до смерти он сам поставил себе неутеши тельный диагноз. К этому времени им уже был изобретен новый способ бальзамирования.
23 ноября 1881 года в 20–45 Николая Ивановича Пирогова не стало. В Большой Советской Энциклопедии сказано, что «тело Пирогова реставрировано и помещено для обозрения в специально перестроенном склепе».
Плоть великого борца со Смертью оказалась в целости и сохранности.