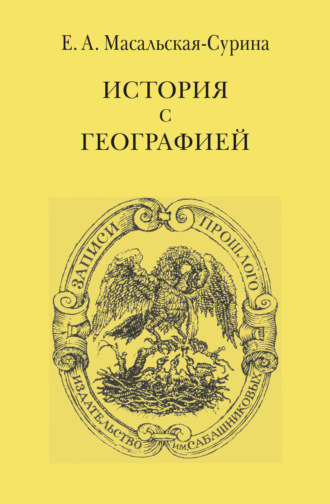
Евгения Масальская-Сурина
История с географией
Прилагаю опять почту! Простите за хлопоты и труд. За пересылку же я надеюсь мои скоро возместят Вам… А теперь вся семья шлет Вам и Нине Ивановне самый искренний привет. Не забудьте к свадьбе второй дочки непременно сделайте подарок от нас… Потому что наша вторая, хотя и старшая, как у Вас, может выйти замуж только благодаря Вашей заботе о доставке пересылаемых сумм… Иначе как могла бы она решить даже просто сшить себе хоть немножко белья? Теперь долл[ар] стоит гораздо дешевле. Вся свадьба и все приданное Сони стоило 150 долларов. Эта парочка тоже безумно счастлива и любят друг друга «все больше», если это возможно. Триста дол[аров] им отложено в капитал, и пока мне удавалось им выдавать с него %, что служит им большой поддержкой. Хотелось бы тоже устроить для Олечки, но свадьба и приданное ее будут дороже – из-за падения долл[ара], во-первых, (после наступившей денежн[ой] реформы), во-вторых, для Сони мы могли еще кое-что найти в своих сундуках да и свадьба второй, и сами «женихи» – все это как-то серьезнее и важнее… А вот что печально, что о[тец] Владим[ир], который венчал Соню, успел только в Сочельник благословить вторую пару… Он в числе заключенных 55 священников.[48] И если не сошел с ума в тюрьме, то во всяком случае в таком нервном расстройстве, что на днях его перевезли в тюремную больницу. Мы все ужасно этим огорчены… Исход же ожидаем – ссылка или вечное заключение. За что?!.. О, ставлю точки, точки…
17-ое Вчера был наш первый вечер. Сонечка прочла посмертное почти письмо отца, написанное уже перед самой операцией о смысле жизни… Очень длинное и обстоятельное. Друзья взяли его переписывать. Затем я прочла несколько глав из детства брата и в десять ч[асов] пили чай. Все были, по-видимому, очень довольны…»
Несмотря на утверждения Евгении Александровны в «Исповеди» В. Д. Бонч-Бруевичу, что после выхода «Диктатуры пролетариата» (1923) отношения с Олафом Броком после тридцатилетней дружбы были прерваны навсегда, сохранившиеся архивные документы свидетельствуют о том, что эти отношения не прерывались.
Посетить Глубокое Евгении Александровне удалось только в августе 1925 года, тогда она отправила Броку две телеграммы, в которых нет даже намека на прерванные отношения, так же, как нет подобных намеков в приведенном выше письме от 15.3.1924. Как в приведенных выше письмах Евгении Александровны к Броку, так и в телеграммах излагались распоряжения о деньгах: 19 августа она попросила немедленно перевести брату покойного мужа, Дмитрию Адамовичу, 400 долларов, а через несколько дней, 25 августа, увидев истинное положение дел в Глубоком, послала Броку телеграмму о том, чтобы запрошенных денег он не посылал ни в коем случае.
Последний раз в Глубоком Евгения Александровна была с июля 1926 до конца января 1927 года. Эта поездка тоже была вызвана улаживанием дел, связанных с имением, но теперь уже Евгении Александровне пришлось сражаться не с польскими властями, а с пасынком, который объявил себя единовластным хозяином имения. Отношения с Димой были настолько невыносимыми, что Евгения Александровна была вынуждена покинуть Глубокое и остановиться у приютивших ее приятеляй Чеховичей в Свенцинском уезде.
Через год, в июле 1928 года, пасынок утонул, а Евгению Александровну начали подозревать в его отравлении. Все закончилось тем, что польские власти дали разрешение на проведение эксгумации трупа, в результате чего было установлено, что смерть Дмитрия Викторовича Масальского-Сурина была вызвана параличом сердца, кода он, находясь под воздействием алкоголя, бросился в воду. Однако и после этого медицинского заключения слухи об отравлении «мачехой с востока» не прекращались. Отношения с родственниками покойного мужа, претендовавшими после смерти племянника на безраздельное владение имением, были крайне напряжены, и отстаивать долю, принадлежащую семье Шахматовых, приходилось с большим трудом в непрекращающихся скандалах.
Вернувшись после полугодового отсутствия в ленинградскую квартиру покойного брата, Евгения Александровна почувствовала неприятные перемены, которые выражались в недружелюбии, высокомерии и даже враждебности со стороны Натальи Александровны. Стараясь не обращать внимания на перемены в отношениях невестки, Евгения Александровна сосредоточилась на записях всего, что помнила о жизни покойного брата и продолжила работу над воспоминаниями о нем.
Из членов семьи Шахматовых идею написания воспоминаний горячо поддержала дочь академика Соня. Евгения Александровна работала над воспоминаниями довольно долго и никак не решалась признать свой труд завершенным. Видя такую нерешительность, Соня сама, без ведома Евгении Александровны, списалась с М. В. Сабашниковым и договорилась об издании воспоминаний об отце.
Несмотря на тяжелое экономическое положение издательства, в начале 1929 года первая часть, из запланированных трех[49], «Повесть о брате моем» была издана и сразу же получили высокую оценку специалистов. Так, например, уже в марте в докладе большого знатока книги и книжного дела И. А. Кубасова, прочитанном в Пушкинском Доме, отмечалось: «При всем желании отвести повести Е[вгении] А[лександровны] место в нашей мемуарной литературе, заставляет пока воздержаться от этого. Но если судить только по первому выпуску, то можно утверждать, что это прежде всего художественная Повесть, художественное произведение, которое по его достоинствам, по мастерству автора, можно поставить в ряд с первоклассными произведениями подобного рода. […] Это – большая, играющая живыми красками мозаичная картина, составленная из натуральных, подлинных семейных и бытовых мелочей, порою в отдельности едва заметных. Но все эти самоцветные мелочи так искусно подобраны, что в общем сливаются в красивую гармонию, в сущности, разрозненных клочков давно пронесшегося растаявшего во времени былого, но властью художника превращенное в стройное, красивое и – что важнее всего – теплеющее жизнью. И вот поскольку в нем теплится эта былая жизнь, чувствуется биение пульса, которое явственно ощущается в бесчисленно приведенных документах в виде подлинных писем, поскольку она эта Повесть и летопись-хроника, она – сама документ, надежный материал для биографии Алексея Александровича, весьма ценный для понимания тайны гениальных личностей надежными воспоминаниями, о которых мы вообще не богаты, даже бедны».[50]
Но вдова брата, Наталья Александровна, на этот счет имела совсем другое мнение: она считала, что поскольку Евгения Александровна не принадлежит к профессиональному кругу покойного академика, то она не должна писать воспоминания о нем и тем более не должна писать о его личной жизни, его жене. После выхода первой части воспоминаний обстановка в доме стала совершенно невыносимой, поэтому под предлогом устроить место для летнего отдыха для племянниц в конце сентября 1929 года Евгения Александровна уехала в Гудауту к своей подруге Элле Куцвинской, с которой в юности работала в Бессарабии. Евгения Александровна рассчитывала остаться на Кавказе если и не навсегда, то очень надолго, но через пару недель вернулась в Ленинград, получив письмо от Сони, умолявшей срочно приехать, поскольку ее муж, отпущенный из-под ареста, снова был арестован.
Вскоре после возвращения в Ленинград Евгения Александровна была арестована. Поводом для ареста послужило письмо Олафа Брока к ней, написанное осенью 1923 года и найденное при обыске в бумагах арестованного профессора В. Н. Бенешевича[51]. Письмо вызвало подозрение, что Евгения Александровна воодушевила норвежского профессора к написанию «Диктатуры пролетариата». Но это были только подозрения, а доказательств никаких не было и быть не могло, потому что Олаф Брок был очень осторожным в переписке с коллегами из советской России. Так, например, не встретившись летом 1930 года в Ленинграде с П. Н. Сакулиным, поскольку тот уже уехал в Москву, Брок писал ему: «Не знаю, вернусь ли я еще в Россию, где был теперь в третий раз по архивным делам. Я очень хотел бы поговорить с Вами об иных вопросах, о которых не так удобно писать. Между прочим, о судьбе иных существ, которая мучит как не соответствующая понятию цивилизованного государства».[52] Не трудно догадаться, о ком Брок хотел говорить с коллегой: прибыв в Россию для изучения архивных материалов, Брок узнал об арестах его знакомых, коллег и друзей: В. Н. Бенешевича, М. Д. Приселкова, С. Ф. Ольденбурга и др. В письме П. Н. Сакулину фамилий «иных существ» Брок не называет, как не называл он их в «Диктатуре пролетариата», поскольку понимал, насколько это опасно для людей, оказавшихся в «советском раю».
В «Исповеди» Бонч-Бруевичу Евгения Александровна пишет: «Совесть же у меня была покойна, потому что даю Вам слово, что в сообщеньях норвежской брошюры я нисколько не была виновата, ни единым словом не дала Олафу Ивановичу повода вывести неподобающие и ложные выводы». Но если бы в руки ОГПУ вместо письма Олафа Брока к Евгении Александровне попало хотя бы одно из ее писем к норвежцу, приведенных выше, ее дело приняло бы совсем другой оборот и не закончилось бы несколькими месяцами в ДПЗ.
Отречение Евгении Александровны от Брока ни в коем случае нельзя принимать «за чистую монету» и тем более упрекать ее в «неискренности», поскольку для того, чтобы выжить самой и спасти семью брата необходимо было жертвовать многим, в том числе и своими жизненными принципами.
Как следует из «Исповеди», в 1930 году все зарубежные друзья, в том числе и по инициативе самой Евгении Александровны, прекратили с ней переписку. В архиве Шахматовых в СПФАРАН и РГАЛИ не сохранилось ни одного письма Олафа Брока к Евгении Александровне, хотя в СПФАРАН хранятся его письма к Алексею Александровичу, умершему в 1920 году, т. е. задолго до массовых репрессий славистов. По той же причине, видимо, сохранились его письма к А. А. Кунику, В. И. Ламанскому, Ф. Ф. Фортунатову и др. Не сохранились письма Брока в архивах ряда известных ученых, с которыми он состоял в переписке после выхода его книги в 1923 году (А. М. Селищев, К. Я. Грот, В. Ф. Шишмарев, И. П. Павлов и др.). О том, что переписка была, свидетельствуют письма этих ученых в архиве Брока. Правдоподобно, что письма Брока уничтожались и как нежелательное свидетельство о связи с автором скандального «памфлета», и как улики в связи с иностранцем.
В то время, пока Евгения Александровна находилась под арестом в ДПЗ, Наталья Александровна не только хлопотала о ее освобождении через Е. П. Пешкову[53], но и уничтожила дневники и другие наиболее ценные бумаги Евгении Александровны, объясняя свои действия опасением обыска, которого, впрочем, так и не было. Евгения Александровна перенесла такое обращение со своими бумагами очень тяжело и считала, что невестка не столько боялась обыска, сколько хотела всеми способами помешать завершить воспоминания о брате. Обстановка в доме стала совершенно невыносимой, и Евгения Александровна в очередной раз оказалась перед сложным выбором: нарушить обещание, данное покойному брату, оставить его семью и закончить воспоминания, или продолжать страдать, отказавшись от мысли завершить работу. В таких размышлениях прошел почти год. Единственным выходом из сложившейся ситуации было получение места в Доме для престарелых ученых. Первого марта 1932 года Евгения Александровна отправила свою «Исповедь» Бонч-Бруевичу.
Обращение именно к Бонч-Бруевичу объяснялось тем, что еще до революции академик Шахматов оказывал помощь будущему управляющему делами Совнаркома не только в собственно научных вопросах, но и хранил вместе с И. И. Срезневским документы и нелегальную литературу, переданные в архив Академии при посредничестве Бонч-Бруевича. Поэтому, как следует из «Исповеди», Алексей Александрович за несколько дней до смерти сказал сестре, что при необходимости за помощью она должна обращаться к этому человеку.
В. Д. Бонч-Бруевич, известный партийный и государственный деятель, будучи директором Государственного Литературного музея, в 1930-е годы занимался комплектованием коллекций этого музея: «Подавляющее большинство приобретенных им в это время ценнейших рукописей погибло бы в предвоенные и военные годы, если бы владельцы этих рукописей не решились передать их в государственный музей, нередко уступив лишь страстной настойчивости директора»[54], он «решал вопросы не только комплектования, но и материальной помощи малоимущим писателям и поэтам».[55] Есть и другие мнения по поводу этой деятельности Бонч-Бруевича, но кроме спасенных материальных ценностей, более ценным было спасение и возвращение к жизни людей, оказавшихся в тяжелом положении «бывших»: «Совершенно невольно и бессознательно всё-таки Вы зажигаете огонь в потухшей жизни, то есть даёте смысл и цель».[56]
Благодаря Бонч-Бруевичу, в июне 1932 году Евгения Александровна получила комнату в Доме престарелых ученых на Халтурина[57] и сразу же включилась в работу по сбору материалов для ГЛМ. В первую очередь, она передала в ГЛМ хранившиеся у нее бумаги семьи Шахматовых, ее мужа Масальского-Сурина, свои уцелевшие от уничтожения невесткой дневники, объемную переписку, рукописи научных работ по скандинавским сагам, перевод с французского дневников А. А. Толстой, а также рукописи своих литературных произведений. Сейчас эти документы хранятся в РГАЛИ и СПФАРАН.
Благодаря стараниям Евгении Александровны в ГЛМ было передано и сохранилось до наших дней множество ценных документов, рукописей, предметов искусства, которые без ее активной деятельности бесследно бы исчезли: переписка Лескова, Кони, и др.
Но, как следует из заявления в КСУ[58], главным аргументом для назначения Масальской государственного обеспечения и выделения комнаты в Доме престарелых ученых была необходимость создания условий для завершения работы над воспоминаниями: «Повесть доведена до 1894 г., т. е. до выбора А. А. Шахматова академиком. Осталось, т[аким] о[бразом], воспроизвести наиболее важную и интересную для ученого мира полосу его жизни, для чего в руках Е[вгении] А[лександровны] имеется ценнейший материал. Однако, как раз в настоящее время, для продолжения этой работы, требующей особого внимания и напряжения, она, в силу неблагоприятно сложившихся материальных условий жизни в семье вдовы покойного брата, лишилась минимальных удобств, и этот начатый труд, равно как и другие без содействия КСУ могут остаться незаконченными».[59]
Однако работа над воспоминаниями шла, видимо, не так быстро, как ожидалось. Какое-то время в работе Евгении Александровне помогал досрочно освобожденный по ходатайству Бонч-Бруевича В. Н. Бенешевич: «С В[ладимиром] Н[иколаевичем] мы пересмотрели весь собранный материал о брате. Он был страшно счастлив получить Ваше письмо, в котором Вы мельком упоминаете о его жене, и вообще оживает, приступил к работе, хотя паспорта еще не получил, но ему на словах всё-таки обещали, и все очень к нему приветливо относятся, что его крайне трогает».[60]
Как следует из переписки, от работы над воспоминаниями Евгению Александровну отвлекали проблемы с публикацией её работы об Ингегерде, увлеченность сбором материалов для ГЛМ, забота о семье покойного брата, друзьях и знакомых: «А пока я пытаюсь наладить работу о брате, что пока мне плохо удается из-за бедности материала. В[ладимир] Н[иколаевич] очень уговаривает и подгоняет меня, я – несомненно – и повезу свой воз, но как неважная лошадь, с помощью кнута, “без божества, без вдохновенья”».[61]
Отсутствие «божества и вдохновенья» было вполне закономерно. Несмотря на оптимистический тон писем к Бонч-Бруевичу и постоянное высказывание благодарности советскому правительству за выделенный угол и кусок хлеба, действительность была удручающей: за волной арестов по «академическому делу» последовали аресты по «делу славистов»; близкий друг, помощник и единомышленник В. Н. Бенешевич, освобожденный в 1933 году, в ноябре 1937 года был снова арестован по обвинению в шпионаже и в январе 1938 года расстрелян по приговору особой тройки НКВД. И в этой обстановке, пусть и «без божества, без вдохновенья», Евгения Александровна не прекращала работу над воспоминаниями: она переработала и дополнила текст, подготовленный к изданию в 1929 году, и довела повествование до конца 1919 года.
Надо было обладать сильной волей и мужеством, чтобы продолжать писать, когда шли повальные аресты и когда на издание книги не было ни малейшей надежды. В своих воспоминаниях М. В. Сабашников писал: «Мы выпускали в «Записях Прошлого» воспоминания Масальской о Шахматове. I часть благополучно выпустили, а II и III части были в рукописи разрешены и уже в набранном и сверстанном виде находились в корректуре, когда наш сотрудник, посещавший типографию, сообщил мне, что среди наборщиков он слышал неодобрительные разговоры о книге Масальской. Вскоре затем меня вызвали в Главлит, где мне было объявлено, что Главлит берет назад свое разрешение и запрещает обе части. Как выяснилось, наборщиков соблазнило описание молебна о дожде в голодный 1891 год, и они написали Главлиту письмо с осуждением книги. После такого случая никакие доводы не могли спасти книгу».
Подвергнуть такой же судьбе продолжение воспоминаний о брате для старшей сестры было недопустимо. Поэтому, оставаясь верной своему принципу «прямо – твердо – смело», продолжая переписываться с Бонч-Бруевичем и информировать его о своей работе над воспоминаниями, Евгения Александровна на самом деле создала две версии воспоминаний: воспоминания с 1908 по 1914 год, о чем свидетельствует машинописный, явно не первый, экземпляр плохого качества, хранящийся сейчас в РГАЛИ[62], и семейную хронику, состоящую из очерков, в которой воспоминания начинаются тоже с 1908 года, но доведены до декабря 1919 года.
Если в изданных воспоминаниях, заканчивающихся 1894 годом, события развиваются в одной семье, где на первый план выступает опека и забота старшей сестры над младшим братом, то в хронике, охватывающей 1908-1919 годы, роли меняются, и старшая сестра во всех сложных ситуациях обращается за поддержкой и помощью к младшему брату. Если в воспоминаниях старшая сестра невольно как бы заслоняла собой главного героя, то в хронике, вольно или невольно, ясно показано, что, повзрослев и обзаведясь собственными семьями, они остаются членами большой семьи Шахматовых. И это касается всего: и спасения безнадежного положения влюбленных Евгении Александровны и Виктора Адамовича, когда Алексей Александрович, оставив свою жену на руках с новорожденной дочерью, помчался в Вену устраивать свадьбу сестры, потому что без его помощи и связей это вряд ли было бы возможно; и решения сложных экономических проблем не только советом, но и вкладом собственного капитала; и моральной поддержки брата в сложных лабиринтах академических интриг, и жертвование собственным благополучием ради поддержки семьи брата после его смерти.
С одной стороны, в центре «Истории с географией» находится семья Масальских-Суриных, и события, складывающиеся в истории, развиваются вслед за географией поисков, покупок и продаж имения, но с другой стороны, в каждой главе присутствует Алексей Александрович, его дела, мысли, заботы, настроение, научные идеи. В «Истории с географией» не пропущено и не обойдено вниманием ни одно сколько-нибудь значимое событие ни в его академической жизни, ни в жизни его семьи.
В повествовании постоянно переплетается всё, чем жила большая семья Шахматовых: семейные хлопоты, здоровье детей, душевное состояние, академические дела: «Теперь мы могли радостно ожидать приезда Лели к нам на Рождество. Сонечка выздоровела, и сам он с радостью думал о предстоящем свидании. Его последние письма дышали столь редким у него спокойствием. Ему был приятен приезд Корша. Другого московского профессора В. Ф. Миллера тоже выбрали академиком, и это очень радовало его».
Выдержки из писем Алексея Александровича к сестре передают его переживания в дни, наполненные тревогой и в семье, и в академии, и свидетельствуют о том, насколько важно для него было общение с близкими особенно в трудную минуту: «Третьего мая, сегодня, мы провожаем Тетю и детей. Не оставляй меня теперь своими письмами, так как то, что ты пишешь Тете до меня уже не дойдёт! Седьмого мая у нас совещание славянских академий. Начался приезд делегатов, ждём также Ягича. Надеюсь, что все пройдёт мирно, и Соболевский, которому я охотно предоставил главную роль, не поссорится с приезжими академиками».
Тяжелое время одинокая овдовевшая сестра и брат переживают вместе в Петрограде, отправив остальных членов семьи в менее опасное место. Жизнь семьи Шахматовых, как и многих других, постепенно превращалась в выживание: «Зима была тяжелая и грустная. Мы провели ее в академии вдвоем с братом. Я пропущу и перелистну эту страницу. Пройдя через невероятные трудности, нам удалось добраться до Актарска на Рождество к нашим дорогим родственникам. Но что за печальные новости и какое отчаяние? К середине января 1918 года мы вернулись в академию и опять остались вдвоем настороже в ожидании немцев».
Над семейной хроникой Евгения Александровна работала очень усердно, и именно для нее она использовала первый экземпляр от машинописной рукописи, хранящейся в РГАЛИ. Для того, чтобы воспоминания о брате, переработанные в семейную хронику, не постигла участь Ингегерды, Евгения Александровна нашла способ, минуя официальные советские каналы, переправить эту рукопись в единственно надежное место, в Норвегию, единственному другу покойного брата норвежскому профессору Олафу Броку.
Из скупой архивной записи следует, что Евгения Александровна скончалась в 1940 году[63], место ее захоронения неизвестно. Но сейчас нам известно, что рукопись, отправленная ею в Норвегию, сохранились в Норвежской национальной библиотеке, в архиве профессора Брока среди неописанного материала. Эту рукопись я нашла в августе 2016 года, а через два месяца в Москве нашла автограф Евгении Александровны[64], который служит своего рода эпилогом к рукописи, найденной в Осло.
Рукопись Е. А. Масальской-Суриной хранится в Норвежской национальной библиотеке в Осло, в архиве профессора Олафа Брока среди необработанных материалов, Olaf Broch, Brevs. 337, Ubeh., в архивных папках VI и VII.
В папке VI, в свернутом картоне в виде самодельной папки, находится три части рукописи, четвертая часть, написанная по-французски, находится в конверте, вложенном в папку VII. Вся рукопись напечатана на машинке. Главы сшиты в отдельные тетради, первые одиннадцать тетрадей по корешку проклеены черной лентой.
На конверте, в котором находится четвертая часть, имеется надпись по-норвежски: «Брок. Проф[ессор] Станг думает, что это художественная литература. Предлагает спросить Хьетсо». Правдоподобно, что конверт был подписан при передаче материалов в архив, не позднее июня 1977 года. Упоминаемые Станг (Christian Schweigaard Stang, 1900 – 1977) и Хьетсо (Geir Kjetsaa, 1937 – 2007) – это профессора литературы Университета Осло.
Нумерация глав в этой части не продолжается после предыдущей, а начинается заново. Названия глав иногда напечатаны, иногда написаны карандашом или ручкой или отсутствуют.
В этом конверте, кроме скрепленных вместе 123-х листов формата А4 с текстом четвертой части, вложено три тетрадных листа: один двойной, вынутый из середины тетради, и два одинарных. На одном листе рукой Евгении Александровны написано: «История с географией в 6-ти очерках». Ниже строки заклеены полоской белой бумаги, но на просвет видны три строки: начало первой строки не читается, но читается два слова в конце: «земского начальника», далее, дважды под цифрой два, написано: «2. Общественные работы в Губаревке в 1898-1899; 2. Общественные работы в Бессарабии 1899-1900». Далее, ниже, в столбик, перечислены и пронумерованы очерки: «3. Минск; 4. Щавры; 5. Сарны; 6. Глубокое». На двух других листах под заголовком «Содержание» перечислены главы первых трех очерков, причем нумерация начинается с третьего очерка, т. е. первый очерк «Минск» идет под номером три. Четвертый очерк, «Глубокое», указан только в оглавлении, перечня глав, т. е. содержания, в отличие от первых трех, на вложенных листах, нет.
Как уже было сказано выше, для создания этой рукописи был использован первый машинописный экземпляр, но в него были внесены значительные изменения: главы перенумеровывались, листы менялись местами, названия глав изменялись, о чем свидетельствуют многочисленные наклейки, зачеркивания, изменение нумерации и т. д. Исправления в текст вносились карандашом и чернилами.
Нет сомнения в том, что четвертая часть готовилась для отдельной публикации, она написана по-французски и никак не была «адаптирована» к предыдущим трем частям, но поскольку эта часть указана автором в оглавлении, то она включена в настоящую публикацию. Изучение этой рукописи позволят предположить, что сначала была предпринята попытка продолжить воспоминания по той же схеме, что использовалась раньше, но материала, видимо, было недостаточно, потому что осенью 1894 года Алексей Александрович уже переехал в Петербург, встречи были нечастыми, а письма этого периода, видимо не сохранились, потому что большая часть переписки погибла во время погрома в имении в Гурбаевке. То, что возможно было написать об этом периоде, не опираясь на письма, – это воспоминания о времени, проведенном самой Евгенией Александровной в Губаревке и о ее работе в Бессарабии. Больше материала, видимо, сохранилось за 1908-1914 годы, на основании которого и были написаны воспоминания о брате, охватывающие этот период.
Но если в воспоминаниях о детских и юношеских годах брата первый план часто занимала сестра, то в воспоминаниях о взрослой жизни брата повествование часто переключалось на события в семье сестры. Поэтому, видимо, и было решено воспоминания о брате заменить семейной хроникой в очерках. Когда именно такое решение было принято, сказать трудно, но до какого-то времени работа велась тщательно и последовательно, а потом в какой-то момент, вдруг работа прервалась, все, что было под рукой, включая черновик с перечнем глав, небрежно написанных карандашом на клочке бумаги, было собрано вместе и отправлено в Норвегию: без предисловия, с заклеенным названием первых очерков, с нарушенной из-за этого нумерацией частей в оглавлении и четвертой частью на французском языке, вместо русского. В таком виде рукопись была спасена, сохранилась в архиве в Осло и сейчас позволяет восполнить существенный пробел не только в биографии ярчайшего представителя российской науки, но и его академического окружения, друзей, членов семьи, его родных и близких.
В предлагаемом издании текст публикуется с сохранением авторского стиля и пунктуации. Опечатки, описки, орфографические, грамматические и пунктуационные ошибки исправлены; используемое автором написание месяцев, должностей, чинов, званий, учреждений с прописной буквы исправлено на строчную; спорадически встречающиеся в тексте устаревшие грамматические формы и буквы заменены на современные. Все даты, если нет специальных оговорок, приводятся по старому стилю. В подстрочных примечаниях помещены авторские примечания, пояснения к тексту, а также перевод иностранных слов, библиографические отсылки, комментарии редактора и составителя. Указатель имен и примечания по содержанию вынесены в конец книги.
Считаю своим приятным долгом поблагодарить за помощь в подготовке настоящего издания сотрудников специального читального зала Норвежской национальной библиотеки и, в первую очередь, Нину Корбу (Nina Korbu); сотрудников читального зала РГАЛИ за оказанную помощь; ведущего научного сотрудника НИОР РГБ Татьяну Владимировну Анисимову благодарю за ряд консультаций и сверку фрагментов текста с оригиналом; за помощь в практических вопросах благодарю норвежских коллег Ингвиль Брок (Ingvild Broch), Бьярне Скова (Bjarne Skov) и Хельге Блаккисрюда (Helde Blakkisrud).
T. П. ЛённгренУниверситет Тромсё – Норвежский Арктический Университет



